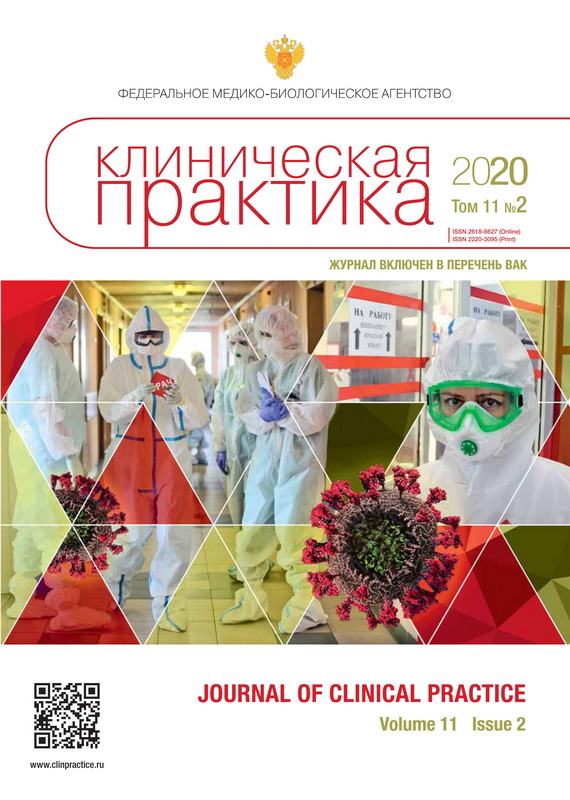Что такое патоморфология в медицине
Что такое патоморфология в медицине
В распознавании, диагностике и изучении патоморфологических основ этиологии и патогенеза психических заболеваний значительное место принадлежит анатомическим исследованиям.
Патологическая анатомия в психиатрии изучает изменения структуры органов и тканей при различных психических болезнях, определяет характер и локализацию патологического процесса (в первую очередь в мозге), устанавливает диагноз психического и соматического страдания, если оно было, и причину смерти. Патологическая анатомия психозов имеет ряд особенностей, обусловленных ее тесной связью с теорией психиатрии, практикой клинической работы и психиатрической прозектуры.
Особенно большой вклад внесла патологическая анатомия в познание заболеваний, связанных с определенным анатомическим процессом в мозге (некоторые формы врожденного слабоумия, сифилис мозга и прогрессивный паралич, старческая деменция, сосудистые психозы и т.п.). Успехи в изучении этих заболеваний, относящиеся к концу XIX и особенно к началу XX в., связаны с развитием нозологических представлений в психиатрии, распространением анатомических методов в медицине и появлением элективных гистологических методов изучения нервной ткани.
Успехи в изучении перечисленных органических заболеваний мозга вселили большие надежды на выявление морфологической основы и других психозов. Однако оказалось, что далеко не все психические заболевания имеют достаточно очерченную нейроморфологическую картину головного мозга. К таким болезням относятся шизофрения, аффективные и другие эндогенные психозы. Но даже тогда, когда психоз имеет определенный анатомический субстрат (например, сифилис мозга или прогрессивный паралич), клиническую картину болезни полностью объяснить его наличием не удается, поскольку сходным анатомическим поражениям иногда соответствуют различные формы и проявления болезни. Все это свидетельствует о достаточно сложных взаимоотношениях между патологическим процессом на нейроанатомическом и психическом уровне и в известной мере о существовании определенных границ для нейроморфологии в познании патогенеза психозов. Признание этого касается прежде всего традиционных методов световой микроскопии, использующихся в психиатрической прозектуре, и вряд ли будет правильным экстраполировать эту точку зрения на более совершенные методические приемы, которые уже появились или будут разработаны в будущем. Но тем не менее в клинической психиатрии в противоположность «органическим» стали выделять «функциональные» психозы и к 50—60-м годах интерес к анатомическому исследованию несколько снизился.
Перечисленные изменения создали предпосылки для значительного углубления положений классической нейрогистологии, выявления существа ранее описанных гистологических феноменов при том или ином психическом заболевании и изучения природы лежащих в их основе патологических процессов. Однако такие исследования из-за необходимости для их проведения специального оборудования и высококвалифицированных специалистов, пока не получили широкого распространения в повседневной практике психиатрических прозектур. Тем не менее они важны для интерпретации патологоанатомических данных.
Патологоанатомический диагноз в психиатрии — всегда диагноз клинико-анатомический, т.е. синтез клинических, биологических и морфологических данных о проявлениях и особенностях болезненного процесса, его динамике и исходе. Речь идет о том, что морфологические исследования в психиатрии служат продолжением клинической диагностики [Гиляровский В.А., 1955; Смирнов Л.И., 1955]. Как и в общей патологической анатомии, исследование аутопсийного материала направлено на верификацию клинического диагноза. Однако в некоторых случаях патологоанатомический диагноз психического заболевания формулируется со ссылкой на клинический диагноз. Это обусловлено тем, что при некоторых заболеваниях не установлено достаточно специфичных морфологических изменений, позволяющих отличить одно заболевание от другого, не принимая во внимание клиническую картину.
Патологоанатом психиатрического учреждения сталкивается с трудностями, обусловленными в первую очередь тем, что сами психозы относительно редко бывают причиной смерти. Больные, как правило, умирают от интеркуррентных соматических заболеваний, чаще в пожилом возрасте. Оценивая те или иные морфологические изменения, патологоанатом должен учитывать не только основное психическое заболевание, но и влияние дополнительных факторов. Кроме сопутствующих соматических заболеваний, это возрастные изменения органов и тканей (их значение особенно возрастает в связи с увеличением продолжительности жизни), результаты применения современных лечебных средств, а также патоморфоз психозов и в том числе патоморфоз, обусловленный психофармакологическими средствами ( в последние годы в работе патологоанатомов психиатрических учреждений появились трудности, не связанные со спецификой психиатрической прозектуры. Вопреки традициям, сложившимся в отечественной клинической медицине, принят закон, согласно которому анатомическое исследование становится по существу необязательным (на его проведение должно быть согласие родственников больного) со всеми вытекающими последствиями для психиатрической диагностики в условиях отсутствия клинико-анатомической верификации диагноза (закон принят Государственной думой 8.12.95 г.) ).
При патологоанатомической диагностике необходимо исключить посмертные изменения. В отечественных психиатрических учреждениях в отличие от некоторых зарубежных не производят биопсию мозга при психозах. В связи с этим раннее вскрытие приобретает огромное научное и практическое значение, позволяя патологоанатому исключить нежелательное наслоение аутолитических, посмертных изменений ткани мозга и других органов.
Основные диагностические приемы в психиатрической прозектуре не отличаются от таковых в общей патологической анатомии (анатомическое вскрытие, макроскопическое и микроскопическое исследование всех органов и тканей); особенно тщательно и систематизировано изучают мозг умерших.
При макроскопическом изучении мозга обращают внимание на его размеры, массу, состояние мозговых оболочек, кровенаполнение, консистенцию. Для минимального исследования мозга с помощью световой микроскопии мозг разделяют на несколько частей (обычно делают вертикально-поперечные разрезы на уровне височных полюсов, через мамиллярные тела, через валик мозолистого тела и отделяют мозжечок со стволом мозга) и фиксируют в 5 % растворе формалина. Для специальных гистологических и гистохимических методик используют и другие фиксаторы. После фиксации из мозга вырезают кусочки для дальнейшей гистологической обработки. Для этого необходимы кора (обычно лобная) с оболочками, полосатое тело, мозжечок с зубчатым ядром и продолговатый мозг на уровне олив. В нейроморфологии широко используют не только общие гистологические методы, но и методы, избирательно выявляющие те или иные морфологические элементы нервной ткани и их изменения. Для суждения о состоянии нервных клеток (нейронов, или нейроцитов) используют метод Ниссля, астроцитов — методы Кахала и Снесарева, микроглии — Ортеги и Миагавы — Александровской, аргирофильного каркаса сосудов — импрегнацию по Снесареву, миелина — окраску по Шпильмейеру и Лизону и др. В последние годы применяют гистохимические методы и методы люминесцентной микроскопии, в частности, для выявления амилоидных отложений (в психиатрической прозектуре одним из наиболее частых проявлений амилоидоза мозга служат сенильные бляшки).
При изучении изменений в нейронах обращают внимание на их форму, размеры, взаиморасположение, состояние ядра, изменения цитоплазмы, нисслевского вещества (тифоида), нейрофибрилл.
В классификациях патологических изменений нейронов выделяют: 1) «первичное раздражение» по Нисслю; 2) сморщивание, или склероз («хроническое заболевание» по Нисслю); 3) отечное состояние; 4) ишемические изменения; 5) острое набухание («острое заболевание» по Нисслю);
6) «тяжелое заболевание» по Нисслю; 7) патологическое отложение липоидных веществ (в том числе липоидный склероз, связанный с отложением липофусцина; 8) кальцинацию; 9) кариоцитолиз (клетка-тень).
Из изменений отростков клеток (нервных волокон) наибольшее практическое значение имеет выявление демиелинизации.
При оценке изменений глиальных элементов учитывают состояние всех видов глии — астроцитов, олигодендроцитов и микроглиоцитов, характер процесса в целом (атрофический, гипертрофический, гиперпластический), т.е. реактивность глии.
В основе патологоанатомической диагностики отдельных психических заболеваний лежат определение и оценка изменений во всех элементах нервной ткани вместе взятых (нейронах, нервных волокнах, глии, сосудах, оболочках). Комплексы этих изменений составляют гистопатологические синдромы [Смирнов Л.И., 1941], из которых формируются типы патологических процессов, характеризующих заболевания мозга. Одна из наиболее распространенных классификаций патологических мозговых процессов (мозговых болезней) предложена П.Е.Снесаревым. Он выделяет энцефалопатии, энцефалиты и опухоли. Морфологические понятия «энцефалопатия» или «энцефалит», естественно, шире, чем «гистопатологический синдром», поскольку они включают в себя не только характеристику морфологического симптомокомплекса, но и указание на этиологический фактор и патогенез нарушений.
Различают следующие энцефалопатии: 1) диспластические (уродства развития мозга); 2) дисциркуляторные; 3) некробиотические и некротические; 4) геморрагические; 5) травматические и другие деструктивные; 6) энцефалопатии, связанные с внедрением инородных тел и инвазией паразитов;
7) регенеративно-пролиферативные (наблюдающиеся при регенерации нервных волокон и др.); 8) дистрофические. Из всех энцефалопатии в диагностике психических заболеваний наибольшее практическое значение имеют дистрофические энцефалопатии. Эти энцефалопатии в свою очередь разделяются на: а) аноксические; б) алиментарно-дистрофические (при алиментарном истощении); в) токсические (при различных отравлениях); г) токсико-аноксические (характерные для эндогенных психозов); д) инволюционно-дистрофические (при старческом слабоумии и других процессах старения).
Энцефалиты представляют собой воспалительные синдромы. Выделяют энцефалиты неспецифические и специфические, острые и хронические, диффузные и очаговые. Они разделяются также по этиологии (вирусные, бактериальные, паразитарные), патогенезу и важнейшим патологоанатомическим проявлениям (например, демиелинизирующие). Некоторые демиелинизирующие энцефалиты относятся к нейроаллергическим заболеваниям.
П.Е.Снесарев (1961) подразделял опухоли на нейроэктодермальные, опухоли из мозговых корешков и периферических нервов, оболочечные и сосудистые. Существуют и другие классификации новообразований мозга. На морфологической характеристике опухолей мы не останавливаемся, поскольку в прозекторской практике с ними чаще встречаются неврологи и нейрохирурги и они подробно описаны в специальных руководствах.
Патологическая анатомия отдельных психических заболеваний изложена в соответствующих разделах руководства.
Жизнь возле смерти

Олег Вадимович! Вы главный патологоанатом огромного мегаполиса. Не встречала выпускника медвуза, который бы говорил: «Хочу посвятить себя патологической анатомии, стать патологоанатомом». Поэтому задам банальный вопрос: как вы оказались в этой специализации?
Олег Зайратьянц: Вопрос в корне содержит неверное, ошибочное представление о патологической анатомии. И связано это с тем, что у нас сохранилось очень старое название «патологическая анатомия». Нигде в мире этот термин не употребляется.
А какой употребляется?
Олег Зайратьянц: Патология. Специалист-патолог. Мы неоднократно ставили вопрос об имени нашей специальности. Но до конца он не решен. Хотя в некоторых вузах возникли даже кафедры патологии. Например, в Белгородском федеральном университете, в Сеченовском университете кафедра патологии создана давно. Сменить название медицинской специальности не просто, но необходимо. Маленький нюанс. Мы, как Российская ассоциация общества патологоанатомов, входим в европейское общество патологов.
Однако вы ушли от прямого ответа: почему вы-то стали работать в этой специальности?
Олег Зайратьянц: Случайно. Хотя мой отец был достаточно известным патологоанатомом в России. Он основал патологоанатомическую службу сначала в Институте рентгенорадиологии. Институт теперь входит в Герценовский онкологический комплекс. Потом основал патологоанатомическую службу в Институте эндокринологии. Конечно, понимание того, что это за специальность, как бы ее ни называли, как-то звучит для студента не очень заманчиво.
Ведь что такое патология? Это наука о болезнях. Патолог должен общаться со всеми специалистами. Я старался больше заниматься общей патологией. А есть экспериментальная патология. Все, что потом применяется для человека, начинается в эксперименте. Экспериментальная патология занимается всем: от начала разработки лекарственных препаратов до разных методов диагностики.
Я был свободен в выборе профессии. Сначала меня заинтересовала кардиология. Немножко пробовал себя в хирургии. Понял, что мне интересно разбираться в сущности болезней, заниматься исследованием болезней. Почему, например, при патологии головного мозга страдает иммунитет? Почему при эндокринных болезнях иммунная система в стороне? Почему иммунные нарушения отражаются на работе нервной системы?
А можете ответить на вопрос сегодняшнего дня? Как ведет себя иммунная система при ковиде? Об этом много написано, но все-таки.
Олег Зайратьянц: Написано много. Наверное, не все оправдается. Нужно время, чтобы осмыслить теоретически. С иммунной системой при ковиде будет еще много открытий. Это серьезное переключение иммунного ответа с одних иммуноглобулинов на другие, это антитела разные.
Рано делать выводы? Надо немножко подождать?
Олег Зайратьянц: Быстро такие исследования не проводятся. Потом нужно будет теоретическое обобщение. Но уже понятно, что многое зависит от так называемого врожденного иммунитета. Это очень серьезная область, которая вообще не так давно изучена. Еще лет двадцать назад мы бы в основном говорили о приобретенном иммунитете. Роль врожденного недооценивалась. А ковид показал, какая у него гигантская роль. Почему некоторые не восприимчивы к ковиду? Почему другие заболевают?
Вы болели?
Олег Зайратьянц: Нет. Я и члены моей семьи привились «Спутником».
Современная вирусология, которая этим сейчас занимается, не может обойти стороной мнение тех, кто занимается патологиями?
Но, как вы сказали, во всем мире вскрытий в среднем всего четыре процента. А у нас?
Олег Зайратьянц: 60-70 процентов. И это наше серьезное достижение! Не случайно за рубежом пошли публикации: срочно надо возвращать вскрытие! Иначе не понять ковид, иначе не разобраться с тем, что это такое. Начали производить вскрытия. Пошел большой материал, публикуемый в разных изданиях.
Мы в этом плане впереди планеты всей?
Олег Зайратьянц: Так получилось. Конечно, хорошо быть скромным. Но в данном случае скромность неуместна. Мы оказались действительно впереди. Ситуация сложилась так, что у нас сохранились не просто в большом объеме патологоанатомические вскрытия. Например, в стационарах Москвы процент вскрытий достигает 90 процентов. А ведь это целая инфраструктура.
Всегда нужно вскрытие? Его проводят по разрешению родственников? Без их разрешения?
Но есть ситуации, прописанные в этом законе: я считаю, что очень правильно прописанные. Потому что, во-первых, нельзя отменить вскрытие при подозрении или диагнозе инфекционного заболевания. Это позволяет эпидемиологическую обстановку держать под контролем, принимать меры, чтобы не пропустить инфекцию. Второе. Это отсутствие или сомнение в прижизненном клиническом диагнозе. Когда диагноз остается неясным, то для того, чтобы понять, чем страдал человек, какие были особенности и так далее, вскрытие необходимо.
Расхождения в диагнозах часты? Вот говорят: человек умер от сердечной недостаточности. А при вскрытии оказывается, что у него была опухоль.
Олег Зайратьянц: Такое возможно. Такого просто не может не быть. Если мы бы все знали, то, наверное, и медицина была бы уже не нужна.
Об этом мало кто знает. Тот же, казалось бы, обычный гастрит. Он разный, и лечение принципиально разное. И основано оно на том, что во время эндоскопии берется крошечный кусочек (это совершенно безопасно) слизистой оболочки желудка. И мы, патологоанатомы, ставим точный диагноз и предлагаем схему конкретного лечения. И касается это не только гастрита, но и иных болезней. Пока мы не поставим диагноз, не дадим своего заключения, не может начинаться лечение.
Олег Зайратьянц: Мы участники диагностического процесса. Раньше у нас (сейчас это менее распространено, а за рубежом развито) для решения о начале лечения, об изменении лечения был обязателен консилиум специалистов, в который входит патологоанатом или, как сейчас говорят, патолог. Время универсалов прошло.
А время стандартов?
Олег Зайратьянц: Стандарты необходимы для того, чтобы средний уровень был не ниже определенного качества. Но мы врачи, это медицина. Каждый больной индивидуален. И кроме стандарта необходимы знания, необходим индивидуальный подход к больному. Стандарты как бы фундамент.
Вы разговариваете с пациентами?
Олег Зайратьянц: Обязательно! Многие приходят за ответами на свой биопсийный материал. Их направляют лечащие врачи, когда понимают, что объяснить какие-то нюансы того, что найдено в материале, лучше специалисту, который это делает.
Приходит цветущая женщина. У нее как бы все прекрасно. А вы уже знаете: биопсия показала, что у нее рак. И вы должны ей об этом сообщить.
А если все-таки приговор?
Олег Зайратьянц: К счастью, с каждым годом все реже.
Вы оптимист?
Олег Зайратьянц: Скорее, здоровый пессимист. У меня на столе всегда лежит мое любимое изречение, которое принадлежит великому человеку Чарльзу Буковскому: «Проблемы этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности». Считаю, что это жизненное кредо. Очень правильное.
И между тем. Недавно интернет шумел: в одном лечебном учреждении, чтобы быстрее получить труп из морга, брали деньги.
Олег Зайратьянц: Мы не ритуальные работники. Причем здесь врач-патологоанатом? Выдача трупов? У человека горе. Он сталкивается с людьми, которые иногда тоже в белых халатах, но не имеют отношения к патологической анатомии. Это только место совпадает иногда.
В нашей стране тело умершего выдается чаще всего из корпуса, где находится патологоанатомическое отделение с диагностическим блоком, с коллективом диагностов. Во Франции, например, структура другая. Там тело умершего из лечебного учреждения тут же передается в похоронные дома. И в похоронных домах проходит выдача тела, разговоры с персоналом. У нас традиционно все под одной крышей.
Так должны морги быть на территории больницы или нет?
Может, вовсе неуместно говорить «морг при больнице»?
Мы такие же врачи, как и терапевты, хирурги. Если врач не беспокоится о больных, ему не место в той клинической медицине, о которой мы говорим. Есть медицина теоретическая, есть медицина экспериментальная. Там можно делать великую науку. Но патологическая анатомия, патология, чем я занимаюсь, она прежде всего клиническая. Мы не имеем права на диагностическую ошибку.
А врачи других специальностей имеют право на ошибку?
Олег Зайратьянц: На мой взгляд, врачи клинических специальностей права на ошибку не имеют. Но так как все мы люди и, естественно, не всесильны, а медицина далеко еще не все знает, мы иногда ошибаемся. К сожалению, это есть и это будет. По-моему, при приеме в мединститут важнейшим должен быть экзамен по эмпатии человеческой, по способности воспринять чужую боль.
При нашей беседе молча присутствует ваша жена Татьяна Георгиевна Барсанова. Она сотрудник вашего подразделения. Такая тут семейственность?
Зайратьянц: Не вижу в этом ничего плохого: биологи в нашем деле необходимы. А Татьяна выпускница биофака МГУ. Мы познакомились еще в школьные годы, занимались вместе у репетиторов. Готовились поступать на биофак МГУ. Татьяна поступила, а я нет. Почему? Плохо знал математику. А основной экзамен там был математика. А Татьяна стала молекулярным биологом. И с тех пор работает в медицине. Занимается современной молекулярной биологической диагностикой.
Вы как главный специалист, имеющий дело с разными медицинскими учреждениями города, могли бы просветить: какие из них лучше, какие не на должном уровне?
Зайратьянц: В медицине во все времена, во всех странах не было лучших и худших учреждений. В любом учреждении были и есть лучшие и худшие специалисты.
. Лучше или хуже оказывающие услуги?
Что-то случилось со здоровьем? Где будете лечиться?
Зайратьянц: Смотря что случилось. Есть специалисты, которых лично знаю. И как каждому человеку, естественно, хочется обратиться к нему. Хотя он может быть и не самым хорошим.
Зайратьянц: И этим мы можем гордиться.
Патологическая анатомия легких при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Предварительный анализ аутопсийных исследований
Полный текст
Аннотация
Обоснование. В настоящее время углубленно изучаются вопросы пато- и морфогенеза новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Актуально проведение сравнительного анализа морфологических изменений легких умерших пациентов в различные временные сроки после появления первых клинических симптомов заболевания. Клинико-морфологические сопоставления должны способствовать повышению квалифицированной медицинской помощи пациентам реанимационного профиля и снижению больничной летальности.
Цель исследования — сформировать рабочую гипотезу концептуальной схемы клинико-морфологических фаз развития COVID-19 интерстициальной пневмонии на основе проведенных аутопсийных исследований.
Методы. Проведен анализ 80 летально закончившихся случаев в COVID-центре ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Наряду с оценкой макро- и микроскопических изменений респираторного тракта применена дополнительная гистохимическая окраска по Ван Гизону и выполнены иммуногистохимические исследования, позволяющие оценить состояние легких при COVID-19.
Результаты. Обнаруженные особенности диффузного альвеолярного повреждения при новой коронавирусной инфекции (COVID-19) позволили представить рабочую гипотезу патоморфогенеза COVID-19 интерстициальной пневмонии. Мы предлагаем три фазы — фульминантную, персистирующую и фибротическую, каждая из которых условно ограничена определенными временными параметрами и характеризуется определенными морфологическими признаками. Дисрегуляторная активация моноцитарных фагоцитов, развитие генерализованного тромбоза микроциркуляторного русла, патологическая репарация, прогрессирующий внутриальвеолярный и интерстициальный фиброз — основные звенья патоморфогенеза COVID-19-интерстициальной пневмонии. В ответ на внедрение вируса SARS-CoV-2 в экссудативной и пролиферативной стадиях преобладают реакции Т-клеточного иммунитета. В фибротической стадии общее количество Т-лимфоцитов резко снижено, клеток гуморального иммунитета не выявлено. Превалирование CD8+ Т-лимфоцитов-супрессоров над CD4+ Т-лимфоцитами-хелперами, возможно, связано с механизмами аутоиммунного поражения.
Заключение. Поражение легких с развитием COVID-19-интерстициальной пневмонии — основная причина тяжелого течения заболевания и летальных исходов. Выявленные особенности патоморфогенеза клинико-морфологических фаз COVID-19-интерстициальной пневмонии позволят улучшить качество диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Ключевые слова
Полный текст
ОБОСНОВАНИЕ
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) — потенциально опасное острое респираторное заболевание, вызванное новым коронавирусом (SARS-CoV-2), преимущественно с аспирационным механизмом передачи. В соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации, вирус SARS-CoV-2 отнесен ко II группе патогенности [1]. COVID-19 может протекать не только в виде легкой острой респираторной вирусной инфекции, но и в тяжелых формах, которые характеризуются развитием клинической картины острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и полиорганной недостаточности с высокой летальностью [2, 3].
На протяжении периода пандемии пополняются научные сведения об этиологии, эпидемиологии, патогенезе и морфологических изменениях, клинических особенностях, лечении и профилактике новой коронавирусной инфекции [4–7].
Распространение COVID-19 представляет особую опасность в отношении декомпенсации хронических заболеваний. Наиболее часто тяжелые формы COVID-19 наблюдаются у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, хроническими заболеваниями почек, злокачественными новообразованиями [8–11].
Патогенез COVID-19 находится в процессе активного изучения. В отечественной и зарубежной литературе констатировано, что основным рецептором клеток, с которым связывается S-белок (Spike Protein) оболочки SARS-CoV-2, является ангиотензинпревращающий фермент 2 (angiotensin-converting enzyme 2, ACE2). Инфицирование происходит при участии трансмембранной сериновой протеазы 2 (transmembrane protease serine 2, TMPRSS2), необходимой для активации S-белка [12–15].
Рецептор ACE2 обнаружен на клетках различных органов (легкие, сердце, почки, тонкая кишка и др.), в том числе он присутствует на клетках иммунной системы, эндотелиальных клетках артериальных и венозных сосудов [16–19].
Основной мишенью вируса SARS-CoV-2 является респираторный тракт. Происходит поражение альвеолоцитов 1-го и 2-го типов, клеток эндотелия сосудов, что приводит к нарушению функционирования аэрогематического барьера и сурфактантного альвеолярного комплекса [15, 16].
Одной из наиболее актуальных патогенетических концепций COVID-19 является иммунная дисфункция (дисрегуляция), в основе которой лежит синдром активации макрофагов (macrophage activation syndrome, MAS) [16, 20, 21].
Дисрегуляторная активация моноцитарных фагоцитов, наблюдаемая у пациентов с тяжелыми формами COVID-19, возможно, ассоциируется с гипериммунным ответом, стимулирующим моноцитарно-макрофагальную систему легких с массивным выбросом цитокинов [16, 22, 23].
При генерализации инфекционного процесса наблюдается высокая продукция провоспалительных цитокинов и хемокинов с развитием «цитокинового шторма». Тяжелое течение COVID-19 сопровождается наиболее высоким уровнем в сыворотке крови интерлейкинов (interleukin, IL) 6, 8, 18, 1β и фактора некроза опухоли альфа (tumor necrosis factor-alpha, TNFα). Риск летального исхода ассоциирован с высоким уровнем IL6 в сыворотке крови [24, 25]. Гиперергическая иммунная реакция лежит в основе развития ОРДС и полиорганной недостаточности при COVID-19 [22].
Один из предполагаемых механизмов гибели клеток, инфицированных SARS-CoV-2, — пироптоз (вид программируемой некротической гибели клетки, при котором в результате активации каспазы 1 происходит нарушение целостности плазматической мембраны с формированием пор и быстрое высвобождение наружу содержимого клетки) [26, 27]. В очагах воспаления (внутриальвеолярно и в интерстиции) активированные макрофаги кроме выработки медиаторов воспаления секретируют ростовые факторы, запускающие процесс репарации и активирующие фибробласты.
В патогенезе ранних изменений важную роль играют активированные нейтрофилы, реагируя на любое нарушение гомеостаза в органах дыхания. Активация нейтрофилов способствует повреждению эндотелия, ухудшению реологических свойств крови, активации тромбоцитов и нарушению микроциркуляции. Объем и степень поражения микроциркуляторного русла напрямую коррелируют с течением и прогнозом заболевания [20]. Активированные нейтрофилы выделяют фактор активации тромбоцитов, обусловливая тем самым агрегацию и секвестрацию тромбоцитов, синтез фактора роста тромбоцитов, стимулирующего процессы фиброзирования.
Система мононуклеарных фагоцитов легких сопоставима с системой мононуклеарных фагоцитов печени, а диффузно развивающийся фиброз ткани легкого в исходе ОРДС при COVID-19 по своему течению целесообразно сравнить с отдельными формами вирусных поражений паренхимы печени (например, при вирусных гепатитах с исходом в цирроз печени). Не исключается возможность распространения (персистенции) коронавируса SARS-CoV-2 в организме за счет инфицирования клеток иммунной системы, более вероятно, макрофагов [28].
Морфологические признаки COVID-19 на современном этапе сводятся в основном к описанию изменений ранней (экссудативной) и поздней (пролиферативной) стадий ОРДС. Также верифицируется повреждение эндотелиоцитов микроциркуляторного русла с нарушениями в системе свертывания крови, развитием ДВС-синдрома с мультифокальным микротромбозом и последующей полиорганной дисфункцией с преобладанием острой почечной недостаточности [2, 3, 29].
Некоторые специалисты считают, что в отношении определения поражения легких при COVID-19 термин «пневмония» совершенно не отражает морфологию, клинико-рентгенологические признаки патологического процесса, наблюдаемого при поражении легких вирусом SARS-CoV-2. Предлагается к использованию термин «вирусное поражение легких» (вирусный пневмонит, вирусная интерстициопатия) [30]. Ряд авторов в качестве нового названия тяжелой COVID-19 предлагает термин «микрососудистый обструктивный тромбовоспалительный синдром легких» [31].
Звенья патогенеза и морфологические особенности новой коронавирусной инфекции требуют дальнейшего комплексного изучения с применением современных методов исследований. Остаются актуальными также вопросы правильного учета летально закончившихся случаев и эпидемиологической безопасности при проведении патологоанатомических вскрытий.
Цель исследования — изучить патоморфогенез COVID-19 на основе проведенных аутопсийных исследований с формированием рабочей гипотезы концептуальной схемы клинико-морфологических фаз развития заболевания.
МЕТОДЫ
Условия проведения
Проведено комплексное патологоанатомическое исследование секционного материала, полученного после аутопсий 80 умерших пациентов в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России с основным заболеванием COVID-19 тяжелого клинического течения, подтвержденным выявлением методом полимеразной цепной реакции как при жизни, так и посмертно РНК SARS-CoV-2.
Характеристика (градация) исследуемых групп
Учитывая широкий спектр обнаруженных морфологических изменений в легких, в основе которых лежит диффузное альвеолярное повреждение, градация исследуемых групп проведена в соответствии с тремя стадиями ОРДС — экссудативной, пролиферативной и фибротической.
Первая исследуемая группа составила 12 случаев летальных исходов в течение 10 сут от начала клинических признаков COVID-19, вторая — 28 случаев, от 11 до 20 сут, третья — 40 случаев, от 21 до 45 сут.
Во всех случаях были выполнены патологоанатомические вскрытия с соблюдением временных методических рекомендаций по исследованию умерших с подозрением на новую коронавирусную инфекцию [29].
Методы исследования
Для исследования аутопсийного материала применялись гистологические, гистохимические и иммуногистохимические методы. Фрагменты трахеи, крупных бронхов, легких и внутренних органов фиксировали в формалине не менее 72 ч, далее проводили заливку в парафин. Серийные парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону. Из парафиновых блоков изготавливали срезы толщиной 3 мкм, которые окрашивали общепринятыми методиками.
В 13 случаях были выполнены иммуногистохимические исследования с антителами к СD3, CD4, CD8, CD20, CD31 (PECAM-1), CD34, СD57, CD68, CD138, Cytokeratin 5 & 6, гладкомышечному актину (actin, smooth muscle), сурфактантассоциированному белку А (surfactant A), коллагену IV типа (collagen type IV). Депарафинирование, регидратацию, демаскировку и окраску антигенов производили при помощи специализированной автоматизированной системы BenchMark® ULTRA (Ventana, США).
Статистический анализ
Результаты патологоанатомических исследований представлены в предварительном виде, так как набор и исследование материала продолжаются. Статистическая обработка будет выполнена позднее на большем объеме наблюдений.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Основные результаты исследования
При аутопсийном макроскопическом и последующем гистологическом исследовании трахеи и легких пациентов, погибших от новой коронавирусной инфекции, были обнаружены морфологические признаки, отличающие ее от других острых респираторных вирусных инфекций.
Особенность макроскопической картины трахеи — неравномерность геморрагических изменений слизистой оболочки, которые чаще отсутствовали или минимально проявлялись в проксимальной части и были умеренно/резко выражены в дистальной части и главных бронхах.
При гистологическом исследовании дистальных отделов трахеи и бронхов крупного и среднего калибров были выявлены процессы нарушения кровообращения в сосудах микроциркуляторного русла подслизистого слоя в виде микроангиопатии (эритроцитарные сладжы, стазы, формирующиеся тромбы, периваскулярный отек). Нарушения кровообращения синхронно развивались с процессами повреждения, десквамации, очаговой базальноклеточной гиперплазии респираторного эпителия (рис. 1) с формированием фокусов плоскоклеточной метаплазии. Активные метапластические процессы, возможно, индуцированные вирусом, усугубляют течение инфекционного процесса, благоприятствуя распространению возбудителя, и нарушают мукоцилиарный клиренс, приводя к снижению барьерной функции эпителия.
Рис. 1. Базальноклеточная гиперплазия эпителия трахеи. Окраска гематоксилином и эозином, ×100
В 12 случаях летального исхода в течение 10 сут от начала заболевания макроскопически легкие были увеличены, тяжелые, тестоватой или плотной консистенции, маловоздушные, на разрезе с обширными участками «лакированного» вида, темно-красного (вишневого) цвета (рис. 2, А, Б). Присутствовали участки неравномерной окраски с чередованием сероватых, светло-багровых очагов, резко выраженного отека. В 5 случаях (смерть от 7 до 10 сут от начала заболевания) также отмечались единичные очаги зернистого вида, серовато-желтого цвета, и четко определялись участки геморрагических инфарктов правильной треугольной формы (рис. 2, В, Г) с наличием обтурирующих тромбов в сегментарных и субсегментарных ветвях легочных артерий.
Рис. 2. Макроскопическая картина легких при фульминантной фазе COVID-19-интерстициальной пневмонии, 9–10-й дни болезни
Примечание. A, Б — легкие «лакированного» вида на разрезе; В — участок геморрагического инфаркта легкого; Г — геморрагические инфаркты легкого на разрезе.
При гистологическом исследовании во всех случаях обнаружены основные морфологические признаки диффузного альвеолярного повреждения. Массивная гибель альвеолоцитов 1-го типа и синхронное поражение эндотелия капилляров приводят к экссудации жидкости и белковых молекул во внутриальвеолярное пространство, развитию отека легких, представленного серозным экссудатом, с присоединением преципитатов и нитей фибрина в просветах альвеол (рис. 3, схематическое изображение 1). По контурам альвеолярных ходов, альвеолярных мешочков, альвеол и части бронхиол формируются гиалиновые мембраны в виде полосовидных гомогенных эозинофильных масс (рис. 3, схематическое изображение 2). Погибшие альвеолоциты 1-го типа начинают компенсаторно замещаться пролиферирующими альвеолоцитами 2-го типа. Происходит денудация — «оголение» базальных мембран аэрогематического барьера (рис. 3, схематическое изображение 3–4) с разрушением его «рабочей зоны».
Рис. 3. Патоморфологические фазы COVID-19-интерстициальной пневмонии, соответствующие экссудативной (1–5) и пролиферативной (6–9) стадиям острого респираторного дистресс-синдрома (обозначения 1–9 приведены в тексте) [иллюстрация Ф.Г. Забозлаева]
В альвеолах среди фрагментированных гиалиновых мембран наблюдаются диффузно расположенные клеточные инфильтраты из легочных макрофагов (в том числе с формированием полинуклеарных форм), полиморфно-ядерных лейкоцитов, немногочисленных лимфоцитов, которые располагаются по типу «опавших листьев». Полиморфно-ядерные лейкоциты локализуются преимущественно вдоль межальвеолярных перегородок, в которых выявляются признаки нарушения микроциркуляции в виде эритроцитарных сладжей, стазов, фокусов экстравазации и дилатации капилляров (рис. 4).
Рис. 4. Микроскопическая картина альвеол при фульминантной фазе COVID-19-интерстициальной пневмонии. Окраска гематоксилином и эозином, ×100
Примечание. А — внутриальвеолярный отек с процессами его резорбции; стазы в мелких капиллярах межальвеолярных перегородок; Б — сформированные гиалиновые мембраны; интерстициальный отек межальвеолярных перегородок со слабовыраженной круглоклеточной инфильтрацией; В — пролиферация альвеолоцитов 2-го типа с их десквамацией и денудацией базальной мембраны; десквамированные альвеолоциты и легочные макрофаги в просвете альвеол; выраженный интерстициальный отек.
В просветах ветвей легочных артерий — фибриновые и эритроцитарно-фибриновые тромбы. Эндотелий в зонах прикрепления тромботических масс реактивно изменен: с признаками внутриклеточного отека, набухания, укрупненными ядрами. Также имеет место отек субэндотелиального слоя с гиперплазией мышечных клеток медиального слоя. Периваскулярная воспалительно-клеточная реакция во всех случаях выражена слабо, представлена скоплениями лимфоидных клеток и макрофагов. Вместе с тем определяются посткапиллярные венулиты с диффузной лимфолейкоцитарной инфильтрацией (рис. 5).
Рис. 5. Патоморфологические изменения в сосудах легких при фульминантной фазе COVID-19-интерстициальной пневмонии. Окраска гематоксилином и эозином
Примечание. А — фибриново-эритроцитарный тромб в мелкой ветви легочной артерии, ×40; Б — отек субэндотелиального слоя с гиперплазией мышечных клеток медиального слоя; периваскулярная воспалительно-клеточная реакция, ×100; В — посткапиллярный венулит с диффузной лимфоидной инфильтрацией, ×200.
При развитии геморрагического инфаркта из бронхиальной артерии поступает кровь, которая разрывает капилляры и изливается в просвет альвеол (рис. 3, схематическое изображение 5).
Проведено иммуногистохимическое исследование секционного материала 3 пациентов, умерших в течение 10 сут от начала заболевания. Во всех случаях обнаружено преобладание CD3+ Т-лимфоцитов над CD20+ В-лимфоцитами, CD4+ Т-хелперы превалируют над CD8+ Т-супрессорами (рис. 6, А, Б). CD20+ В-лимфоциты, CD57+ NK-клетки, CD138+ плазматические клетки немногочисленны, располагаются преимущественно в виде редких периваскулярных и перибронхиальных скоплений. Позитивная экспрессия антигена CD68 подтверждала наличие большого количества легочных макрофагов, расположенных преимущественно в просветах альвеол (рис. 6, В). Также высокая экспрессия CD31 (PECAM-1) документировалась в эндотелии кровеносных и лимфатических сосудов, макрофагах, гранулоцитах, при этом в данной стадии пролиферации кровеносных и лимфатических сосудов не выявлено (рис. 6, Г).
Рис. 6. Иммуногистохимический анализ изменений легких при фульминантной фазе COVID-19-интерстициальной пневмонии
Примечание. А — экспрессия CD4 Т-лимфоцитами-хелперами, ×100; Б — экспрессия CD8 Т-лимфоцитами-супрессорами, ×100; В — экспрессия CD68, ×100; Г — экспрессия CD31 (PECAM-1), ×200.
При оценке экспрессии сурфактантассоциированного белка А отмечены его гиперпродукция пролиферирующими альвеолоцитами 2-го типа и фагоцитоз легочными макрофагами, которые, заполняя просветы альвеол, входят в состав экссудата, состоящего из погибших альвеоцитов 1-го типа, лизированных эритроцитов, фибрина. Происходит дополнительный перфузионный блок к образованным гиалиновым мембранам, что препятствует газообмену в альвеолах.
Экспрессия коллагена IV типа обнаружена в участках деформированных «оголенных» базальных мембран аэрогематического барьера без накопления данного маркера в межальвеолярных перегородках.
При макроскопическом исследовании легкие 28 умерших пациентов второй группы (11–20-е сут) были увеличены, более плотной консистенции, мало- или безвоздушные. На разрезе отмечались участки «мозаичного» вида в виде резко выраженной гиперемии, распространенных сливных и очаговых кровоизлияний в сочетании с желтовато-розовыми и серовато-белесоватыми участками. В 19 случаях определялись геморрагические инфаркты (с диффузной локализацией в сегментах легких) при наличии в ветвях легочных артерий обтурирующих белесоватых и темно-красных тромбов. В целом морфологическая картина легких на разрезе напоминала порфировидный гранит, что позволило нам образно называть их «порфировые легкие» (рис. 7, А). Также имели место кровоизлияния в висцеральной и париетальной плевре. Наряду с вышеописанными макроскопическими признаками с большим постоянством встречались в отдельных сегментах персистирующие участки слабо-/умеренно выраженного отека, зоны «лакированного» вида. В 16 случаях наблюдались очаги зернистого вида вследствие присоединения вторичной бактериальной инфекции. В субплевральных отделах верифицировались различной протяженности и топографии белесоватые участки фиброза с формированием ретикулярного/сетчатого рисунка сероватого цвета.
Рис. 7. Макро- и микроскопическая картина легких при персистирующей фазе COVID-19-интерстициальной пневмонии, 18-й день болезни. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 (Б, В, Д, Е); окраска по Ван Гизону, ×100 (Г)
Примечание. А — «порфировое» легкое; Б — участки деформированной альвеолярной паренхимы с гиалиновыми мембранами, врастанием грануляционной ткани в респираторные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолы; В — внутриальвеолярный отек, макрофаги и десквамированные альвеолоциты с формированием мультинуклеарных структур, моноциты; Г — слабо-/умеренно выраженный периваскулярный фиброз; Д, Е — гиперплазия альвеолярного и бронхиолярного эпителия с участками плоскоклеточной метаплазии и реактивной дисплазии.
При гистологическом исследовании во всех случаях имеет место персистирование морфологических признаков экссудативной стадии диффузного альвеолярного повреждения с наличием внутриальвеолярного и интерстициального отека и формированием вновь образованных гиалиновых мембран. Вместе с тем наблюдается врастание грануляционной ткани в респираторные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолы (рис. 3, схематическое изображение 8–9; рис. 7, Б). Синхронно определяются участки структурной перестройки архитектоники паренхимы легкого — зоны ателектазов и дистелектазов с компенсаторным расширением прилежащих альвеол и терминальных бронхиол. Просветы большинства альвеол щелевидной формы. В просветах альвеол определяются макрофаги, часть из которых с пенистой цитоплазмой, кариомегалией и формированием мультинуклеарных структур, клетки десквамированного альвеолярного эпителия, сливающегося в поликарионы, лимфоидные клетки и полиморфно-ядерные лейкоциты.
В интерстиции многочисленные фокусы сосудистой пролиферации, участки грануляционной ткани. Во всех случаях межальвеолярные перегородки деформированы и утолщены за счет разрастания коллагеновых волокон и воспалительно-клеточной инфильтрации, представленной макрофагами, лимфоидными клетками, полиморфно-ядерными лейкоцитами. Выявлен слабо-/умеренно выраженный периваскулярный фиброз (рис. 7, В, Г).
Отмечается гиперплазия бронхиолярного эпителия с участками плоскоклеточной метаплазии и реактивной дисплазии (рис. 3, схематическое изображение 6–7; рис. 7, Д, Е). Также имеет место смещение границ бронхоальвеолярного перехода в сторону альвеолярных ходов с бронхиолизацией альвеолярного эпителия. На фоне пролиферативных изменений отмечается массивная десквамация альвеолярного и бронхиолярного эпителия.
В случаях присоединения вторичной бактериальной инфекции в легочной паренхиме наблюдаются очаги острого воспаления вокруг бронхов или бронхиол размерами от ацинуса до сегмента. Воспалительная инфильтрация стенок бронхиол с накоплением преимущественно гнойного и смешанного экссудата в просветах альвеол, бронхиол и бронхов.
Проведено иммуногистохимическое исследование секционного материала 5 пациентов, умерших в течение 11–20 сут от начала заболевания. Во всех случаях обнаружено преобладание CD3+ Т-лимфоцитов над CD20+ В-лимфоцитами, при этом в 2 случаях пролиферативной фазы — превалирование цитотоксических CD8+ Т-супрессоров над CD4+ Т-хелперами (рис. 8, А, Б), в 3 случаях соотношение двух типов Т-лимфоцитов равное. Резко уменьшено количество CD20+ В-лимфоцитов, CD57+ NK-клеток по сравнению с экссудативной фазой. Плазматических клеток не обнаружено (реакция к CD138 отрицательная). Экспрессия антигена CD68 выявлена во всех случаях в большом количестве функционально активных макрофагов, расположенных преимущественно в просветах альвеол, меньше — в интерстиции межальвеолярных перегородок (рис. 8, В). CD31 (PECAM-1) экспрессируется в эндотелиальных клетках кровеносных сосудов, в том числе грануляционной ткани, малых лимфатических сосудов, также преимущественно в макрофагах (рис. 8, Г). При иммуногистохимическом исследовании с CD31 и CD34 выявлены признаки очагового повреждения эндотелия. Обнаружена положительная реакция к сурфактантассоциированному белку А, преимущественно в участках локализации альвеолярных макрофагов (рис. 8, Д).
Рис. 8. Иммуногистохимический анализ изменений легких при персистирующей фазе COVID-19-интерстициальной пневмонии
Примечание. А — экспрессия CD4 Т-лимфоцитами-хелперами, ×200; Б — экспрессия CD8 Т-лимфоцитами-супрессорами, ×200; В — экспрессия CD68, ×100; Г — экспрессия CD31 (PECAM-1), ×200; Д — экспрессия сурфактантассоциированного белка А, ×100.
У 40 пациентов, умерших в срок 21–45 сут от начала заболевания, легкие увеличены, безвоздушные. На висцеральной плевре — множественные кровоизлияния, реже формирование спаечного процесса. На разрезе паренхима легкого пестрого вида, с четкой градацией стадий диффузного альвеолярного повреждения, в отдельных случаях — с «этажностью» изменений. Преимущественно в верхних отделах легких — чередование зон резкого полнокровия, фокальных или массивных кровоизлияний, геморрагических инфарктов, синхронно сочетающихся с обширными участками фиброза, начинающегося преимущественно в субплевральных отделах и занимающего несколько сегментов в средних и нижних отделах обоих легких. В 14 случаях имели место признаки присоединившейся вторичной бактериальной инфекции. Паренхима легких в участках фиброза плотная, «каучуковой» консистенции, при суперинфекции — мелко- и крупнодольчатого строения. Прилежащая к участкам фиброза висцеральная плевра легкого с мелкобугристой поверхностью визуально напоминала капсулу цирротически измененной печени (рис. 9, А).
Рис. 9. Макро- и микроскопическая картина, иммуногистохимический анализ изменений легких при фибротической фазе COVID-19-интерстициальной пневмонии, 36-й день болезни. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 (Б, Г–Е); окраска по Ван Гизону, ×100 (В)
Примечание. А — макропрепарат легких: прилежащая к участкам фиброза висцеральная плевра легкого с мелкобугристой поверхностью, визуально напоминает капсулу цирротически измененной печени; Б — пролиферативные, гиперпластические и метапластические изменения бронхиального и альвеолярного эпителия с формированием аденоматозных структур, очагов плоскоклеточной метаплазии с фокусами ороговения и реактивной дисплазии; В — диффузный фиброз легочной паренхимы при фибротической фазе COVID-19-интерстициальной пневмонии; Г — экспрессия гладкомышечного актина (actin, smooth muscle) пролиферирующих миофибробластов; Д — экспрессия Cytokeratin 5 & 6 в очагах плоскоклеточной метаплазии; Е — экспрессия коллагена IV типа.
При гистологическом исследовании — структурная дезорганизация паренхимы легкого с изменением нормальной гистоархитектоники за счет быстропрогрессирующего фиброза. Альвеолы преимущественно коллабированы (ателектазы и дистелектазы) с единичными щелевидными просветами (рис. 10, схематическое изображение 1–3). Межальвеолярные перегородки резко утолщены за счет отложения коллагеновых волокон с фокусами пролиферации фибробластов и миофибробластов, редукцией капиллярного русла, диффузной инфильтрацией макрофагами, полиморфно-ядерными лейкоцитами и немногочисленными лимфоцитами. Эпителиальная выстилка деформированных межальвеолярных перегородок представлена пролиферирующими альвеолоцитами 2-го типа, с признаками резко выраженных реактивных и дисрегенераторных изменений.
Рис. 10. Патоморфология фибротической фазы COVID-19-интерстициальной пневмонии
Примечание. ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром [иллюстрация Ф.Г. Забозлаева]
Наблюдаются пролиферативные, гиперпластические и метапластические изменения бронхиального эпителия с формированием аденоматозных структур, очагов плоскоклеточной метаплазии с фокусами ороговения и реактивной дисплазии. В зонах аденоматозной гиперплазии — наползание метаплазированного бронхиолярного эпителия в просветы альвеолярных ходов (рис. 9, Б). Окрашивание по Ван Гизону выявляло на этой стадии диффузный фиброз легких (рис. 9, В).
Проведено иммуногистохимическое исследование секционного материала 5 пациентов, умерших в течение 21–45 сут от начала заболевания. Во всех случаях фибротической фазы обнаружено преобладание CD8+ Т-супрессоров над CD4+ Т-хелперами, при этом общее количество Т-лимфоцитов резко снижено. CD20+ В-лимфоциты, CD57+ NK- клетки не выявлены.
Положительная реакция к гладкомышечному актину (actin, smooth muscle) пролиферирующих миофибробластов и миофибробластических фокусов (рис. 9, Г). В участках плоскоклеточной метаплазии — положительная реакция к cytokeratin 5 & 6 (рис. 9, Д).
Резко выраженная экспрессия коллагена IV типа определяется по ходу утолщенных базальных мембран, в том числе сосудистого русла, бронхиального дерева, в интерстиции утолщенных и резко деформированных межальвеолярных перегородок (рис. 9, Е). На отдельных участках обнаружена более интенсивная реакция вокруг фокусов плоскоклеточной метаплазии.
ОБСУЖДЕНИЕ
Наш предварительный опыт патологоанатомических исследований умерших пациентов с тяжелыми формами полисегментарных, субтотальных и тотальных пневмоний, вызванных новым коронавирусом (SARS-CoV-2), в сочетании с обширной междисциплинарной информацией позволяет представить рабочую гипотезу патоморфогенеза COVID-19-интерстициальной пневмонии.
Острый респираторный дистресс-синдром при СOVID-19-интерстициальной пневмонии отличается от классической схемы развития диффузного альвеолярного повреждения, модифицированной в 2016 г. [32]. Согласно данной схеме, диффузное альвеолярное повреждение включает 2 стадии общей продолжительностью около 14 дней (рис. 11).
Рис. 11. Стадии острого респираторного дистресс-синдрома по Аnna-Luise A. Katzenstein, 2016 [32]
По нашему мнению, ОРДС при СOVID-19 имеет 3 стадии, которые сопровождают развитие соответствующих клинико-морфологических фаз COVID-19-интерстициальной пневмонии:
1) экссудативная стадия с развитием фульминантной фазы COVID-19-интерстициальной пневмонии;
2) пролиферативная стадия с развитием персистирующей фазы COVID-19-интерстициальной пневмонии;
3) фибротическая стадия с развитием фибротической фазы COVID-19-интерстициальной пневмонии.
Каждая стадия соответствует определенному времени развития заболевания и представлена характерными макро- и микроскопическими признаками (рис. 12).
Рис. 12. Стадии острого респираторного дистресс-синдрома, соответствующие фазам развития COVID-19-интерстициальной пневмонии
Экссудативная стадия соответствует острой фазе диффузного альвеолярного повреждения с развитием распространенного отека легких и формированием в последующем гиалиновых мембран (см. рис. 3), по протяженности занимает до 10 сут от начала клинических симптомов заболевания. Отличительная особенность экссудативной стадии — дисрегуляторная активация моноцитарных фагоцитов, вероятно, ассоциированная с гипериммунным ответом, стимулирующим моноцитарно-макрофагальную систему легких с последующим развитием микротромбоза в сосудах легких, при тяжелых формах — с генерализованным микротромбозом с поражением сосудов сердца, почек, головного мозга, верхних и нижних конечностей. При летальных исходах в течение экссудативной стадии мы посчитали необходимым указать на молниеносное течение соответствующей фульминантной фазы COVID-19-интерстициальной пневмонии.
Особенность пролиферативной стадии, которая составляет до 20 сут от начала клинических симптомов заболевания, — широкий спектр морфологических проявлений, постоянное сочетание персистирующих признаков экссудативной стадии в виде вновь появляющихся фокусов внутриальвеолярного отека и гиалиновых мембран с гиперпластическими, реактивными и дисрегенераторными изменениями, начальными признаками развития фиброза. Эти морфологические изменения позволяют говорить об атипическом течении ОРДС при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). При этом непосредственные причины смерти наиболее часто связаны с тромбоэмболическими осложнениями и присоединением вторичной (бактериальной) инфекции.
При патологоанатомическом исследовании легких в фибротическую стадию (смерть от 21 до 45 сут и более от начала болезни) отмечалось субтотальное, но чаще тотальное поражение паренхимы с развитием диффузного интраальвеолярного и интерстициального фиброза при практически полном отсутствии функционально жизнеспособной легочной ткани. Примечательно, что интерстициальный фиброз, который в течение длительного времени развивается и сопровождает течение обычной интерстициальной пневмонии, а также фиброзный вариант неспецифической интерстициальной пневмонии, при фибротической фазе прогрессирующего тяжелого течения COVID-19-интерстициальной пневмонии формируется всего за 1,5–2 мес. Ранее данный признак мы также наблюдали при острой интерстициальной пневмонии (синдром Хаммена–Рича).
В случаях выживания пациентов с фибротической фазой COVID-19-интерстициальной пневмонии требуется квалифицированное катамнестическое наблюдение, поскольку можно прогнозировать их тяжелую инвалидизацию, требующую постоянной респираторной поддержки и рассмотрения вопроса о трансплантации легких вследствие высокой вероятности развития пневмоцирроза и опухолевой трансформации.
Проведенные в небольшом объеме иммуногистохимические исследования предварительно свидетельствуют, что в ответ на внедрение вируса SARS-CoV-2 преобладают реакции Т-клеточного иммунитета, который более выражен в экссудативной стадии с дальнейшим снижением. Превалирование CD8+ Т-лимфоцитов-супрессоров над CD4+ Т-лимфоцитами-хелперами при персистирующей и фибротической фазах коронавирусной (COVID-19) интерстициальной пневмонии может рассматриваться как признак вероятного аутоиммунного поражения.
Слабая выраженность реакций гуморального иммунитета при фульминантной фазе коронавирусной (COVID-19) интерстициальной пневмонии, отсутствие CD20+ В-лимфоцитов и плазматических клеток в фибротической стадии требуют дальнейшего изучения и клинико-морфологических сопоставлений.
Поражение легких с развитием COVID-19-интерстициальной пневмонии — основная причина тяжелого течения заболевания и летальных исходов. Выраженная воспалительная инфильтрация легочной ткани провоспалительными макрофагами, генерализованное поражение микроциркуляторного русла и более крупных сосудов с развитием тромбоэмболических осложнений, прогрессирующий фиброз паренхимы легких, присоединение вторичной бактериальной инфекции — предикторы неблагоприятного прогноза.
ВЫВОДЫ
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке ФМБА России.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие конфликта интересов, о котором необходимо сообщить.
УЧАСТИЕ АВТОРОВ
Ф.Г. Забозлаев — написание статьи, методологическое обеспечение, общее руководство; Э.В. Кравченко — корректура статьи, подготовка иллюстративного материала, обработка дополнительных методов исследования; А.Р. Галлямова — анализ литературы, обработка морфологического материала; Н.Н. Летуновский — обработка иммуногистохимических исследований. Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию до публикации.