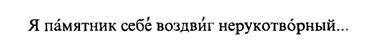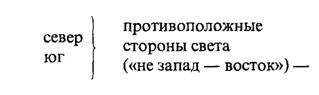Что такое поэтическая строка
Что такое поэтические строки?
Что такое поэтические строки?
Пожалуйста помогите Заранее спасибо.
Это стихотворные строки, которые характеризуются наличием рифмы и интонации.
Напишите небольшое размышление на тему «Моя любимая поэтическая строка»?
Напишите небольшое размышление на тему «Моя любимая поэтическая строка».
Заранее огромное спасибо если есть возможность за час ).
Что такое сравнение в литературе?
Что такое сравнение в литературе?
Помогите?
Нужен стих на 8 строк про природу.
Описание бородинского поля с мспользованием стихотворных строк : пожалуйста?
Описание бородинского поля с мспользованием стихотворных строк : пожалуйста!
Помогите?
Вопрос : Летит сосулька из зимы в весну.
— в чем поэтическое открытие, заключенное в этой строке?
Станция»Поэтическая»Допиши стихотворные строки?
Станция»Поэтическая»Допиши стихотворные строки.
Помогите пожалуйста придумать колядку?
Помогите пожалуйста придумать колядку!
Напишите небольшое размышление на тему «Моя любимая поэтическая строка»?
Напишите небольшое размышление на тему «Моя любимая поэтическая строка».
Первые люди на территории Казахстана появились около одного млн. Лет назад. Об этом свидетельствуют многочисленные стоянки первобытных людей, обнаруженные археологами в Западном, Центральном и особенно много выявленно в Южном Казахстане. Первобытн..
То есть если например если тебе дали честь то ты должен ее беречь с тех пор когда ее тебе дали а не того опомнился в старость.
Это одно из лучших стихотворений в жанре патриотической лирики. Героизм и подвиг наших солдат в ВОВ описан с такой душевной теплотой, житейской мудростью и в тоже время так гениально просто, без кондового пафоса, словно поэт говорит с тобой не с выс..
НЕ СЛЕДУЕТ ПУТАТЬ ТИПОГРАФСКУЮ СТРОКУ СО СТИХОТВОРНОЙ СТРОКОЙ.
Вот пример:
авторская разбивка на строки
(Саша Жданная)
«В погоне за смыслом
И нужной идеей
Мне главного
Хоть бы не проглядеть.
Как хочется часто
В душевном порыве
Хоть капельку истины
Сердцем узреть.
И не жалеть
О безумных началах,
Собой вдохновляя
Другие миры;
В погоне за смыслом
В течение жизни
Как хочется сердцу
Красивой любви. «
Согласно собственному ритму стиха, его следует разбить на строчки так:
«В погоне за смыслом и нужной идеей
Мне главного хоть бы не проглядеть.
Как хочется часто в душевном порыве
Хоть капельку истины сердцем узреть.
И не жалеть о безумных началах,
Собой вдохновляя другие миры;
В погоне за смыслом в течение жизни
Как хочется сердцу красивой любви. «
«прижав карманы
и голос к глоткам. «
И помимо ритма чисто звукового, начиная с уровня строки
появляется СМЫСЛОВОЙ и ГРАММАТИЧЕСКИЙ ритм.
И, соответственно, появляются соответствующие ошибки.
Возьмем скажем строчки (невыдуманные):
«Лишь иногда мелькнет на
Синей волне дельфинья спина. «
Звучит откровенно коряво.
Либо это грубая ошибка, либо откровенный выдрюк.
Если прочитать это как положено по смыслу и грамматике то получится:
«Лишь иногда мелькнет на синей волне
дельфинья спина. «
Менее коряво было бы:
«Лишь иногда мелькнет на синей
Волне вдали спина дельфинья. «
«Лишь иногда мелькнет на синей»
«Волне морской спина дельфинья»
убрано ложное стыкование «волне вдали»,
и сочетание «волне морской» звучит приемлемо, но разрыв
между «синей» и волной остался.
Звучит наименее коряво из рассмотренных вариантов,
Это уже что-то похожее на стихи.
хотя конечно ощущение огреха остается.
«Лишь иногда на волне на синей»
«Cверкнет вода на спине дельфиньей»
Такой огрех, когда разрываются на две строки словосочетания,
обязанные по грамматике или по смыслу стоять рядом друг с другом,
называется ПЕРЕНОСОМ.
(на мой взгляд, употребление заимствованного термина вместо
«перенос» ни к чему).
«Обрывок бечевы. Становится темнее. »
(Обрывок бечевы становится темнее)
«С которой стерли запись. Позабыв. »
(с которой стерли запись, позабыв.)
«не повернуть. От Иордана. »
(не повернуть от Иордана)
«Шалтай-Болтай я. Без утайки. »
(Шалтай-болтая без утайки)
Особого рассмотрения требует перенос в стихотворных
сценических произведениях, но это собственно не стихи, а именно
драматические произведения. У театра есть своя специфика,
поэтому здесь это обсуждать не будем.(например почему
у Пушкина переносы, весьма редкие в стихах, в драматических
произведениях встречаются чаще).
Также как другого подхода требует и оценка белого стиха в текстах пьес.
Занятие «Чудеса и тайны поэтических строк»
Дидактический материал:
Ход занятия
Песня на стихи А.Киняевой, муз. Р.Воротникова «Чудо» (1 куплет и припев).
Педагог: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ольга Евгеньевна.
В: Скажите, ребята, кому знакома эта песня?
О: Эту песню написал наш урайский композитор Рудольф Воротников на стихи ученицы 7 класса школы – гимназии Анастасии Киняевой.
В: Ребята, а кто из вас пробовал писать стихи? Прочтите. У вас сегодня есть прекрасная возможность поместить свои стихи и рассказы в газету «Литературный альманах» (по одному экземпляру на стол) по адресу, указанному на карточке № 3 (дидактический материал).
В: Каждый из вас, ребята, чрезвычайно талантлив. Можно я буду вас называть юными дарованиями?
Педагог: (Способ стимулирования, поощрения) Самая активная группа получит I-ый сборник стихов литературного объединения «Юность». А поскольку мы работаем со стихотворением, тема занятия: «Чудеса и тайны поэтических строк» (створки доски раскрываются).
В: Вы готовы открывать чудеса и тайны поэтических строк?
В: Что же есть такое в стихотворении, что отличает его от прозаического произведения – прозы, т.е. рассказа, сказки, повести?
В: А какие вы знаете размеры стихосложения?
О: Ямб, хорей (2-х сл.), дактиль, амфибрахий, анапест (з-х сл.).
Дидактический материал № 2
В: Итак, каким размером написано стихотворение?
О: Хореем (2-х сложный размер стихосложения).
Определение способа рифмования.
В: Давайте вполголоса прочтем вместе четверостишье. Окончание каких строк одинаково звучит? (Работа с доской)
В: Какой это способ рифмования?
В: А какие, вы знаете еще способы рифмования?
О: Перекрестный, кольцевой или опоясывающий.
Вывод: Итак, какие мы с вами узнали первые тайны поэтических строк?
Педагог: Давайте проверим, как вы сумеете определить размер стихотворения. Есть интересная игра «Подскажи словечко» (по книге детской поэтессы Елены Мироновой “Стихи для маленьких детей”).
В: Какой способ рифмования в этом стихотворении? (Парный).
В: А каким размером оно написано?
Хореем /_? _/ 2-х сложным способом рифмования.
В: Назовите размер стихосложения?
В: А каким же способом рифмования оно написано?
Педагог: Ребята вам понравились стихи? Хотите еще поиграть?
Давайте поиграем, а отвечать на вопросы будем по плану на доске; начиная с цифры 2.
1) прочесть выразительно;
2) о чем это стихотворение? (тема стихотворения);
3) какая главная мысль?
4) назвать способ рифмования.
5) определить размер стихосложения.
Педагог: Вы готовы? Слушайте, ребята новое стихотворение!
О ком это стихотворение? (О комаре)
Главная мысль: защитить себя от комара.
2. Угадайте название стихотворения.
«Кап – кап…» – капает водичка.
Кто испачкал мне так личико?
Это кашка – замарашка,
А не девочка Наташка.
Есть я вовсе не хотела –
Я за маму с папой ела.
Вы, друзья, теперь не стойте –
Сами мне лицо и мойте!
В: Как бы вы назвали стихотворение?
О: Наташка – замарашка.
В: Значит, какая главная мысль в этом стихотворении?
О: Девочка не любит умываться
В: О ком стихотворение?
Размер – /__? __/ хорей
В: А как бы вы назвали стихотворение?
В: О ком это стихотворение?
(о бледнолицем, об индейце, о мальчике).
Главная мысль – не любит мыло и мочалку.
Рифма парная и перекрестная
В: Какие еще тайны поэтических строк мы сейчас с вами определяли?
О: О чем стихотворение, главная мысль стихотворения?
В: А хотите сами посочинять? Давайте поиграем еще в одну литературную игру, а называется она “буриме”.
Педагог: “Буриме” – это рифмование по опорным словам, на которые должна заканчиваться стихотворная строчка:
В: Что такое буриме?
О: Игра в рифмы по опорным словам.
Дидактический материал № 3
В: Что же получилось?
Прочитайте выразительно, напишите на цветной бумаге и прикрепите на доску.
Вывод: Итак, юные дарования, я вас поздравляю. Вы написали первые стишки.
В: В какие литературные игры мы играли?
О: «Угадай словечко», «Буриме».
Педагог: А теперь прочтите внимательно тексты, ребята, и скажите, как использовали эти слова для рифмования русские поэты Иван Никитин, Афанасий Фет, Фёдор Тютчев? Прочтите внимательно и посмотрите на доску.
В: Какой пункт плана мы еще не использовали в ответе?
О: Прочесть выразительно.
Б) Анализ стихов по плану
I группа: Какое животное выбрали?
В: Прочтите, что получилось?
Педагог: Напишите аккуратно на цветной бумаге и прикрепите на доску.
Вывод: По вашим стихам ребята становится ясно, что вы очень любите своих животных. Молодцы! Мы должны о них заботиться, они доверяют нам. Дома вы можете продолжить свое стихотворение или написать новое. Можно написать рассказ на любую тему и принести по указанному адресу на карточке № 3.
Стихотворение о собаке Алеши Иванова (может прочесть любой, кому оно понравилось).
Появился пекинес
И не понарошку.
Друг – собачка Пекинес,
А зовут Антошкой
Неразлучны целый день –
Все одни игралки.
А уроки делать лень –
Только из-под палки.
Все вверх дном перевернем:
Коврики, паласы;
Под кровать играть нырнем,
Прихватив колбасы.
Стал сырое мясо есть.
Братец мой, Антошка.
И уже на теле шерсть
Подросла немножко.
В школу я, а пес скулит –
Хоть бери с собою!
Итоги: Какая же группа была самая активная? А кто был самый-самый способный к литературному творчеству? (сборники стихов в подарок).
Мы сегодня с вами открывали чудеса и тайны поэтических строк.
А где же чудеса? Можно поэзию назвать чудом?
Чудо – это то, что нас окружат.
Педагог: Давайте, ребята, разучим песенку “Чудо” Насти Киняевой, текст у вас перед глазками (дидактический материал).
II куплет и припев песни «Чудо».
Спасибо вам, ребята за урок! Я рада была с вами познакомиться и жду вас в гости на занятия литературным творчеством.
(Детям на память подарки, сувениры, книги).
Основные понятия системы стихосложения. Виды строф в лирике
Содержание:
Современные принципы стихосложения сформированы в результате языковой реформы М.В. Ломоносова, с тех пор не изменялись.
Основные понятия системы стихосложения
Главное отличие стихотворной речи от поэтической – ритмическая организация, т.е. повторяющийся ритмический рисунок из безударных и ударных слогов.
| Стих | Анализ строения стиха, определение его ритмического рисунка по количеству слогов, сгруппированных по принципу ударности. |
| Ритмика стиха | |
| Акцентный стих | тоже разновидность тоники: в каждой строке равное количество ударных и свободное число безударных слогов. |
Виды строф в лирике
Строфа — это группа стихов (строк), объединенная ритмически и рифмой, составляющая единое целое. Схема, по которой строится строфа в стихотворении (ритм+рифмовка), повторяется на протяжении всего стихотворного произведения.
Трехстишие: терцеп, терация
Средняя строка рифмуется с крайними
строками следующей строфы: aba bcb cdc и т.д.
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
(Данте А. «Божественная комедия»)
Четверостишие: катрен, стансы
Четыре стиха четырехстопного ямба с перекрестными
рифмами при обязательной строфической замкнутости
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Собрались люди мудрые
Вокруг постели Гостомысловой.
Смерть над ним летает коршуном!
Но, махнувши слабою рукою,
Говорит он речь друзьям своим…
(Лермонтов М.Ю. «Последний сын вольности»)
Шестистишие: секстина
Строфа, состоящая из четверостишия и
двустишия с разной системой рифм.
Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнёт нигде волна,
Как тишиною грудь полна!
(Фет А.А. «Какая ночь! Как воздух чист. »)
Семистишие: септима
Как правило, ямб с расположением рифм aabcccb.
«Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»
(Лермонтов М.Ю. «Бородино»)
Есть фиксированные строфы, характерные для определенного стихотворного жанра. Нарушать структуру такой строфы – значит разрушать жанровые принципы. К таким фиксированным строфам относят, сонеты, хокку и другие формы.
Твердые стихотворные формы
Cтихотворные формы, в которых традицией определены объем и строфическое строение стихотворения
Рифма
Созвучные (зарифмованные) концы строчек. Факультативность рифмы при обязательной ритмике стиха объясняет существование поэтических произведений, выделяющихся среди обычных стихотворений:
Значит, поэзию от прозы отличает ритмика, а не рифма.
Стопа
Строительная единица стихотворной строчки, образованная сгруппированными безударными слогами вокруг одного ударного. Каждую поэтическую строчку делят на ритмическую единицу – стопу – по количеству ударений. Количество ударений равно числу стоп в строке.
Стихотворный размер
Схема, по которой строится стихотворная строка. Различают размеры по количеству слогов в одной стопе и количеству стоп в строке. Если количество стоп в стихе не регламентируется, то число слогов, ударных/безударных, объединенных в стопу, – главный критерий для определения стихотворного размера. Для удобства обозначим ударный слог – У, а безударный – б.
Все схемы размеров делят на дву- и трехсложные (по количеству слогов):
Двусложный размер
Двухсложные – в стопе только 2 слога – хорей и ямб у первого ударение на первом слоге, у второго – на втором. То есть, схема хорея – это Уб/, а ямба – бУ/.
Трехсложный размер
Трехсложных размеров три:
Интересно! Способ отличить и запомнить стихотворные размеры от литературоведа А. Илюшина:
Достаточно проскандировать стихотворную строчку, как футбольную кричалку, и сравнить, на какой вариант ложится стих.
Принципы сегментации поэтической строки
Принципы сегментации поэтической строки
Приступая к анализу стиха как ритмической единицы, мы исходим из предпосылки, что стихотворение — это смысловая структура особой сложности, необходимая для выражения особо сложного содержания. Поэтому передача содержания стиха прозой описательно возможна лишь в такой мере, в какой мы можем, разрушив кристалл, передать его свойства словами, охарактеризовав форму, цвет, прозрачность, твердость, структуру молекулы. (139)
Мы уже говорили, что основой структуры стиха является повторение. Это не только справедливо, но и общеизвестно. Многочисленные теории литературы утверждают, что стих строится на повторениях самого различного типа: повторении определенных просодических единиц через правильные промежутки (ритм), повторении одинаковых созвучий в конце ритмической единицы (рифма), повторении определенных звуков в тексте (эвфония).
Однако ближайшее рассмотрение убеждает нас в том, что эта элементарная, казалось бы, истина не столь проста.
Прежде всего, так ли уж одинаковы эти повторяющиеся элементы? Мы уже видели, что рифма — совсем не фонетическое явление повторения звуков, а смысловое явление сочетания повторения звуков и несовпадения понятий. Еще сложнее вопрос ритма.
Принято считать, что здесь происходит правильное повторение ударений. Но ведь совершенно очевидно, что никакие ударные и безударные слоги и звуки в отвлечении от качества этих звуков, в «чистом виде», нигде, кроме как в схемах стиховедов, не существовали. Если не касаться проблем акустики, а говорить о языке, то есть лишь реальные звуки, которые бывают в ударном и безударном положении.
Реальные ударные и безударные звуки, а не «чистые» ударные и безударные слоги, не только акустическая данность — они и данность структурно-фонологическая. После того как Р. Якобсон установил связь структуры стиха с фонологическими элементами,[109] ясно, что элементами ритмической структуры выступают на этом уровне элементы структуры фонологической, а никак не отвлеченные признаки этих элементов.
Перед нами в приведенном примере — последовательность ударных гласных: а — е — и — о. Где же здесь полное повторение? В реальном стихе звучат совершенно различные звуки, различные смыслоразличающие элементы. Где же здесь «систематическое, мерное повторение в стихе определенных, сходных между собой единиц речи», как определяет ритм «Краткий словарь литературоведческих терминов»?[110] Для слушателя здесь реально заметно именно различие этих звуков. То, что у них есть одна общая черта — ударность, создает основу именно для их противопоставления.
Ударение в интересующем нас случае и будет тем «основанием для сравнения», которое позволит выделить смыслоразличительные признаки этих фонем. Различие между поэтической речью и обычной в данном случае состоит в том, что в последней фонемы а, е, и, о не имеют этой общей черты и, следовательно, не могут быть сопоставлены. Таким образом, вместо ме(140)ханического «повторения одинаковых элементов» — сложный, диалектически противоречивый процесс: выделение различия через обнаружение сходства, с одной стороны, и раскрытие общего в глубоко отличном, казалось бы, с другой. Результатом ритмического построения текста оказывается сопротивопоставимость звуков, которые образуют коррелирующие ряды с дифференцирующим признаком — общим положением относительно ударности (положения ударности, предударности первой, второй, послеударности первой, второй и т. д.). Это включает слова, составляющие стихи, в добавочные, сверхграмматические связи.
Значение этого обстоятельства резко возрастает в связи с различием семантической нагрузки звуков в обычной и поэтической речи. Предельной, нераздробимой единицей лексической системы языка является слово. Поскольку передающий и воспринимающий информацию вынуждены пользоваться ограниченным числом звуков, которыми располагает речь, для передачи значительного числа понятий возникла необходимость в комбинациях звуков. При этом, как известно, фонемы в естественном языке — смысло-различительные элементы, носители содержания: достаточно изменить хотя бы одну из них, и воспринимающий уже может не понять значения переданной ему информации или понять его искаженно. Однако носителем лексического значения является именно слово в целом — сочетание данных фонем и в данной последовательности. При этом подразумевается, что пауза — знак словораздела — может быть расположена в связной речи только перед и после этого сочетания фонем. Постановка паузы посередине слова (например, «стол» и «сто л») меняет его лексическое значение.
В поэтической речи дело обстоит иначе. Для того чтобы прояснить одну из существенных граней природы ритма, остановимся лишь на одном частном вопросе — скандовке. Среди признанных авторитетов русского стиховедения вопрос этот вызвал весьма разноречивые суждения. Так, Б. В. Томашевский считал, что скандовка «вещь совершенно естественная и не представляющая каких-либо затруднений. Скандовка для правильного стиха есть операция естественная, так как она является не чем иным, как подчеркнутым прояснением размера». И далее: «Скандовка аналогична счету вслух при разучивании музыкальной пьесы или движению дирижерской палочки».[111] Иной точки зрения придерживался такой знаток русского стиха, как А. Белый: «Скандовка есть нечто, не существующее в действительности, ни поэт не скандирует стихов во внутренней интонации, ни исполнитель, кем бы он ни был, поэтом или артистом, никогда не прочтет строки „Дух отрицанья, дух сомненья“ как „духот рицанья, духсо мненья“, от сих „духот“, „рицаний“ и „мнений“ — бежим в ужасе».[112]
Кто же прав — А. Белый или Б. В. Томашевский? Отметим попутно, что они акцентируют разные, хотя и тесно связанные, стороны вопроса. Б. В. То(141)машевский подчеркивает в скандовке появление добавочных ударений, а А. Белый — пауз, нарушающих единство слова как лексической единицы. Ближайшее рассмотрение убеждает нас в том, что оба исследователя в определенном отношении правы, из чего следует, что относительно к проблеме в целом оба они не правы.
Скандовка действительно выявляет реально существующий ритмический рисунок стиха (как мы увидим, отсутствующие ударения, которые мы при скандовке заменяем действительными, — вполне реальный элемент ритма). Ритмический же рисунок действительно делит текст стиха на отрезки, не совпадающие со смысловыми. И тогда, произносим ли мы:
Дух отрицанья, дух сомненья,
Духот рицанья, духсо мненья,
Духот рицань ядух сомненья –
Но фактически текст разбит на еще более дробные единицы. Сопротивопо-ставляемость звуков по отношению к ударности (вопрос: реализована ударность, то есть имеет место «плюс-ударность», или не реализована — «минус-ударность», — в данном случае не существен; это подтверждается тем, что в отношении к слогу в неударной позиции ударный слог в ударной позиции и неударный слог в ударной позиции ведут себя абсолютно одинаково) пронизывает стих паузами по слогам. Это, как правило, «минус-паузы», но тем не менее они вполне реальны. Следует отметить, что любая «минус-пауза» может быть при декламации легко переведена в реальную. Реализованные и (142) нереализованные паузы свободно взаимопереходят друг в друга. Если чтец в порядке усиления интонации прочтет:
Дух отрица V нья, дух сомненья –
то это, бесспорно, не прозвучит для аудитории как нечто абсурдное. На рисунок пауз лексических накладывается рисунок пауз ритмических. При этом если, говоря о ямбе, мы обозначим неударный слог как 0, а ударный как 1, то ямбический (4-стопный с мужским окончанием) скелет ритма будет выглядеть так:
Подобная схема охватит все комбинации ямбов и пиррихиев, и именно она отражает ритмическую реальность.[114]
Но раздробление стиха не заканчивается на уровне слога. Как мы увидим из дальнейшего изложения, звуковая организация стиха довершает размельчение словесных единств до отдельных фонем. Таким образом, может показаться, что сумма структурных граней стиха раздробляет составляющие стих слова на фонологические единицы, превращает стих в звукоряд. Но в том-то и дело, что все это представляет собой только одну сторону процесса, которая существует лишь в единстве с противонаправленной ей второй.
Специфика структуры стиха состоит, в частности, в следующем: поток речевых сигналов, будучи раздроблен на фонологически элементарные частицы, не утрачивает связь с лексическим значением: слова уничтожаются и не уничтожаются в одно и то же время.
Любое расчленение стиха не приводит к разрушению составляющих его слов. Разнообразные ритмические границы накладываются на слово, дробят его, но не раздробляют. Слово оказывается раздробленным на единицы и вновь сложенным из этих единиц. В пушкинском стихе
Я утром должен быть уверен —
пауза после первого «у» больше, чем перед ним. Реально произносится:
Но никто никогда не ошибется в делении этого текста на лексические единицы. Опасения А. Крученых, что «сдвиги» затемняют значение, были явно лишены оснований. Он отыскивал «икание и за-ик-анье „Евгения Онегина“»:
И к шутке с желчью пополам…
И кучера вокруг огней.
(Ср. и «кущи роз» Лермонтова — икущи, по образцу идущий>. Или «Икра а lа Онегин»:
Партер и кресла, все кипит…
И край отцов и заточенья…
Пером и красками слегка… (143)
И крыльями трещит и машет…
И круг товарищей презренных…[115]
Но именно эти примеры лучше всего убеждают в незыблемости лексических границ внутри стиха.
Никакие паузы, реализованные или нереализованные, которые стиховая структура помещает внутри лексической единицы, не разрушают ее в нашем сознании. Дело в том, что само понятие словораздела отнюдь не в первую очередь определено паузами. Основным признаком является иное: мы владеем лексикой данного языка, в нашем сознании существует — в потенциальном, непроизнесенном виде — вся его лексика, и с ней мы отождествляем те или иные реально произносимые ряды звуков, придавая им лексическое значение. «Возможность недоразумений, как правило, крайне незначительна, главным образом потому, что при восприятии любого языкового выражения мы обычно уже заранее настраиваемся на определенную, ограниченную сферу понятий и принимаем во внимание только такие лексические элементы, которые принадлежат этой сфере. Если все же каждый язык имеет особые фонологические средства, которые в определенном пункте непрерывного звукового потока сигнализируют о наличии или отсутствии границ предложения, слова или морфемы, то эти средства играют всего лишь подсобную роль. Их можно было бы сравнить с сигналами уличного движения. Ведь еще совсем недавно таких сигналов не было даже в больших городах, да и теперь они введены далеко не всюду. Можно ведь и вообще обходиться без них: надо быть только более осторожным и более внимательным!» — справедливо замечал Н. С. Трубецкой.[116]
Активное владение лексикой не допускает никакой «сдвигологии». При любых, самых утрированных формах скандирования ощущение единства лексических единиц не теряется, между тем как в случаях, когда слушатель имеет дело с незнакомой лексикой, легко возникают возможности «сдвигов», при которых ритмическая пауза начинает восприниматься как конец слова. При этом показательно, что имеет место нечто аналогичное народной этимологии. «Сдвиг» возникает потому, что незнакомая и непонятная лексика, рассеченная паузами, осмысляется на фоне другой — знакомой и понятной, потенциально присутствующей в сознании говорящего. Так возникает знаменитое
Шуми, шуми, волна Мирона.
Шуми, шуми волнами, Рона.
Незнакомое «Рона» осмысляется через понятие «Мирона». Несколько иной случай описан Феликсом Коном в его мемуарах. Он рассказывает, как ученики русифицированных школ в дореволюционной Польше, не понимая выражения (144) «дар Валдая», воспринимали его как деепричастие от глагола «дарвалдать».[117] В данном случае лексическая непонятность привела к невозможности осмыслить грамматическую форму, и ряд звуков был спроектирован на потенциально имеющуюся в сознании слушателя форму деепричастия. Таким образом, и редкость, почти уникальность, нарушения правильного членения текста при скандовке, и анализ причин и характера ошибок убеждает в том, что, разделенные ритмическими паузами сколь угодно протяженной длительности, слова стихотворного текста не перестают быть словами. Они сохраняют ощутимые признаки границ — морфологических, лексических и синтаксических. Слово в поэзии напоминает «красную свитку» Гоголя: его режут ритмические паузы (и иные ритмические средства), а оно срастается, ни на минуту не теряя лексической целостности.
Итак, стих — это одновременно последовательность фонологических единиц, воспринимаемых как разделенные, отдельно существующие, и последовательность слов, воспринимаемых как спаянные единства фонемосочетаний. При этом обе последовательности существуют в единстве, как две ипостаси одной и той же реальности — стиха. Они составляют коррелирующую структурную пару.
Отношение слова и звука в стихе существенно отличается от их соотношения в нехудожественном языке, где связь слова и составляющих его фонем носит, как известно, историко-конвенциональный характер. Слова в стихе разделяются на звуки, получающие благодаря паузам и другим ритмическим средствам известную автономию в плане выражения, что создает предпосылку для семантизации звуков. Но, поскольку это разделение не уничтожает слов, которые существуют рядом с цепью звуков и с точки зрения естественного языка являются основными носителями семантики, лексическое значение переносится на отдельный звук. Фонемы, составляющие слово, приобретают семантику этого слова. Опыт подтверждает тщетность многочисленных попыток установить «объективное», независимое от слов, значение звуков (разумеется, если речь не идет о звукоподражании). Однако столь же очевиден перенос значений слов на составляющие их звуки. Приведем пример:
Там воеводская метресса
Равна своею степенью
С жирною гадкою крысой
Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрып подземной.
Из казней и из пыток (145)
И било, как кресало,
Однотипные фонетические сочетания «крыс», «скры», «крес» в каждом из трех отрывков звучат совершенно по-разному, получая различную семантику от лексических единиц, в которые входят.
Каждый звук, получающий лексическое значение, приобретает независимость, самостоятельность, которая отнюдь не сродни «самовитости», ибо целиком определена связью с семантикой слова. И вот эти семантически нагруженные фонемы становятся кирпичами, из которых снова строится это же слово. Таким образом, уже простое включение слова в стихотворный текст решительно меняет его природу: из слова языка оно становится воспроизведением слова языка и относится к нему, как образ действительности в искусстве к воспроизводимой жизни. Оно становится знаковой моделью знаковой модели. По семантической насыщенности оно резко отличается от слов языка нехудожественного.
Так вновь оказывается, что особая музыкальность, звучность поэтического текста — производное от сложности структурного построения, то есть от особой смысловой насыщенности, совершенно незнакомой структурно неорганизованному тексту. В этом легко убедиться при помощи простейшего эксперимента: ни одна самым искусным образом составленная строка бессмысленного набора звуков (звуков вне лексических единиц) не обладает музыкальностью обычной поэтической строки. При этом следует иметь в виду, что слова «заумного языка» совсем не лишены лексического значения, в строгом смысле этого слова.[118] «Заумные слова» в поэзии не равнозначны бессмысленному набору звуков в обычной речи. Поскольку мы воспринимаем издаваемые речевым аппаратом звуки как язык, им приписывается осмысленность. Некая единица речи, осмысляемая как слово по аналогии с другими, значащими, но лишенная собственного значения, будет представлять абсурдный случай выражения без содержания, обозначения без обозначаемого. Слово в поэзии вообще, и в частности «заумное» слово, складывается из фонем, которые, в свою очередь, получились в результате раздробления лексических единиц и не утратили с ними связи. Но если в обычном поэтическом слове связь звука с определенным лексическим содержанием раскрыта и общезначима, то в «заумном языке» поэзии, в соответствии с общим субъективизмом позиции автора, она остается неизвестной читателю. «Заумное» слово в поэзии не лишено содержания, а наделено столь личным, субъективным содержанием, что уже не может служить цели передачи общезначимой информации, к чему автор и не стремится.
При этом надо учитывать, что на уровне морфологии оно, как правило, не отличается от отмеченных слов языка. (146)
Для того чтобы сопоставить с точки зрения «музыкальности» экспериментальный бессмысленный текст с осмысленным, звуки человеческой речи не годятся — мы неизбежно будем их наделять значениями. Нам надо знать, что воспринимаемый поток звуков — не речь. Для этой цели удобнее механические звуки. Но и механические звуки могут быть носителями информации (уже музыкальной), если они структурно организованы (структура — потенциальная информация). Абсолютно случайное, не структурное ни для создателя, ни для слушателя скопление звуков не может нести информации, но оно не будет иметь и никакой «музыкальности». Красота есть информация. Но в этом-то и различие «музыкальности», «красоты звучания» в поэзии от музыки, что здесь упорядоченность несет информацию не о «чистом» отношении единиц (которые в отдельности не значат ничего, а в структуре образуют модель эмоций личности), но об отношении значимых единиц, каждая из которых на лингвистическом уровне составляет знак или осмысляется как знак. Мы можем не знать значения слова «аониды» или слова «Байя» в стихе Батюшкова:
Ты пробуждаешься, о, Байя, из гробницы…[119]
Но мы не можем не знать, что «Байя», «аониды» — слова, знаки содержания, и соответственно их не воспринимать. Слово, не имеющее содержания (вообще или для меня, например в силу незнания), не адекватно бессмысленному набору звуков. Бессмысленный набор звуков имеет на лексическом уровне нулевое значение, непонятное слово — «минус-значение».
Однако ритмические единицы, образующие систему соотнесений, свойственную лишь поэтической речи, делят стих (и составляющие его лексемы) не на фонемы, а на слоги. Деление, доводящее слово до раздробления на уровне фонем, происходит в результате звуковых повторов.
Явление звуковых повторов в стихе — факт, хорошо изученный. Значительно более сложна проблема связи этого явления с вопросами семантической структуры. Ритмическая структура приводит к сопротивопоставлению элементов, носителей лексического смысла, и образованию смысловых оппозиций, которые не были бы возможны в обычной речи и которые складываются в систему связей, совершенно автономную от синтаксической, но, подобно ей, организующую лексемы в структуру более высокого уровня. Звуковые повторы образуют свою, аналогично функционирующую систему. Взаимное наложение этих систем и приводит к раздроблению слова до фонемы.
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я —
слова «утром», «уверен», «увижусь» находятся в определенной связи, не зависящей от обычных синтаксических и иных, чисто языковых связей. Звук (147) «у» (вопреки утверждению В. Шкловского в одной из его ранних работ), конечно, сам по себе никакого значения не имеет. Но повторение его в раде слов заставляет выделить его в сознании говорящего как некую самостоятельную единицу. При этом фонема «у» осознается и как самостоятельная, и как несамостоятельная по отношению к слову «утром». Будучи отделена и не отделена, она получает семантику от слова «утром», но потом повторяется еще в других словах рада, приобретая новые лексические смыслы. Это приводит к тому, что слова «утром», «уверен», «увижусь», которые в непоэтическом тексте составляли бы самостоятельные и несопоставимые единицы, начинают восприниматься в семантическом взаимоналожении. Происходящее при этом сопоставление слов приводит к необходимости раскрыть в их разности нечто единое. При таком семантическом наложении огромная часть понятийного содержания каждого слова окажется отсеченной, подобно тому как контекст отсекает полисемию. Но зато возникнет значение, невозможное вне этого сопоставления и единственно выражающее сложность авторской мысли. В данном случае подобная единица содержания — результат нейтрализации слов «утро», «уверен», «увижусь», их «архисема», включающая пересечение их семантических полей.
Сложность, однако, в том, что вся нестиховая структура языка, все синтаксические связи, все определенные контекстом этой фразы, воспринимаемой как явление непоэзии, значения слов сохраняются. Но одновременно возникают и другие связи и другие значения, которые не отменяют первых, а сложно с ними коррелируют.
Однако в реальном поэтическом тексте мы имеем дело не только со спорадическими повторениями одного какого-либо звука, а с тем, что вся звуковая система стиха оказывается полем сложных соотнесений.
Фонемы, наделенные лексической значимостью, вступают с другими фонемами в оппозиции
1) по признаку одинакового отношения к ударности — неударности;
2) по признаку повторения одинаковых фонем;
3) по признаку семантизации языковых фонологических оппозиций, поскольку сам факт принадлежности текста к поэзии приводит к семантизации всех его элементов.
Одновременно имеет место сопротивопоставление фонем:
1) в раду одного стиха;
2) в различных стихах.
Но реально это означает не сопротивопоставление фонем, а образование крайне сложной системы сопротивопоставления значений, выделение черт общности и различия в понятиях, не сопоставимых вне стиха, образование «архисем», которые, в свою очередь, вступают между собой в оппозиции. Так возникает та понятийная структура большой сложности, которую мы именуем стихом, поэзией.
Термин «архисема» образован по аналогии с «архифонемой» Трубецкого для определения на уровне значений единицы, включающей все общие элементы лексико-семантической оппозиции. «Архисема» имеет две стороны: она указывает на общее в семантике членов оппозиции и одновременно (148) выделяет дифференцирующие элементы каждого из них. «Архисема» не дана в тексте непосредственно. Она возникает как конструкт на основе слов-понятий, образующих пучки семантических оппозиций, а эти последние выступают по отношению к ней как инварианты. При этом надо иметь в виду одну особенность.
Языковые «архисемы» типа:
в рамках той или иной культуры абсолютны, они вытекают из самой системы принятых значений. В поэзии мы сталкиваемся с иным: структурная поэтическая оппозиция воспринимается как смысловая. Ее элементами оказываются слова, решительно не соотносимые вне данной структуры, что раскрывает в самих этих словах такую общность (различие), такое окказиональное содержание, которое вне данной оппозиции оставалось бы решительно невыявленным. Возникающие при этом архисемы специфичны именно данной поэтической структуре. В дальнейшем семантическая структура строится уже на уровне архисем, которые, включаясь в оппозиции, раскрывают сопротиво-поставленность своего содержания, образуя архисемы второго и высших уровней, что, в конечном итоге, ведет нас к постижению одного из аспектов структуры произведения. Поясним это конкретным примером на материале стихотворения А. Вознесенского «Гойя».
Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.
Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.
Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой…
О грозди Возмездья!
Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —
Повторы в этом стихотворении построены по принципу рифмы и убедительно подтверждают мысль о принципиальной соотнесенности ритмического и эвфонического аспектов стиха.
Через все стихотворение проходит цепь коротких, анафористических, с параллельными синтаксическими конструкциями, стихов. Начинающее их местоимение «я» — одно и то же во всех стихах — выступает как общий (149) член, «основание для сравнения». В этой связи вторые члены двучленов («Гойя», «Горе», «голод» и др.) взаимно противопоставлены: подчеркнуто их неравенство, специфичность. Отличие первого стиха от третьего, четвертого и других сосредоточено именно во втором члене двучлена, и это отличие в первую очередь семантическое. Но слова, составляющие второй член, воспринимаются не только в их отношении к одному и тому же первому, но и в их взаимной соотнесенности. Основанием служит единство их ритмической и синтаксической позиции и звуковые повторы в словах «Гойя», «Горе», «голод». Но и внутри этого взаимосоотнесенного ряда раскрываются и силы притяжения и силы отталкивания, которые касаются и семантического, а не только звукового плана. С одной стороны, раскрывается семантическое различие (чего мы коснулись, говоря о рифме). Совпадение отдельных фонем в несовпадающих словах лишь подчеркивает отличие слов в первую очередь по содержанию, ибо, как мы уже видели, там, где полное совпадение звучания сопровождается и совпадением значения, музыкальность рифмы пропадает.
Но имеет место и другой процесс: слова «Гойя», «Горе», «голос», «голод», «горло» выделяют общую группу «го», а сопоставление типа «голос» и «голод» приводит к выделению и других фонем. Создается система, в которой одни и те же звуки в одинаковых или сознательно различных комбинациях повторяются в разных словах. И тут-то проявляется коренное отличие природы слова в обычном языке и в художественном (в частности, поэтическом) тексте. Слово в языке отчетливо распадается на план содержания и план выражения, установить прямые связи между которыми не представляется возможным. Близость плана содержания двух слов может не находить отражения в плане выражения, а близость плана выражения (звуковые повторы, омонимы и т. д.) может не иметь никакого отношения к плану содержания. С этим связано и то, что установить отношения элементов слова (например, на уровне фонем) к плану содержания в обычной речи невозможно.[120]
начальный стих устанавливает тождество двух членов — «я» и «Гойя», причем специфическое для данного текста значение слов нам еще не известно. «Я» — это «я» вообще, «я» словарное; «Гойя» — семантика имени не выходит за пределы общеизвестного. Вместе с тем уже этот стих дает нечто новое по отношению к общесловарному, внеконтекстному значению составляющих его слов. Ясно, что, даже взятая сама по себе, вне соотнесения с другими стихами, конструкция «Я — Гойя» не однотипна, например «Я — Вознесенский». Вторая конструкция утверждала бы единство понятий, тождественных с точки зрения автора и читателя, и вне данного текста. Одно из них («я») было бы лишь местоименным обозначением второго. Стих «Я — Гойя» строится на отождествлении двух заведомо неравных понятий («Я есть Гойя»; «Я (150) есть Гойя»). Уже взятый сам по себе, этот стих свидетельствует, что и «я» и «Гойя» употреблены здесь в каком-то особом значении, что каждое из них должно представлять собой некую особую понятийную конструкцию для того, чтобы их можно было приравнять. Эта специфическая конструкция понятий раскрывается через систему семантических оппозиций, особых, сложно построенных значений, которые возникают в результате структуры поэтического текста.
Уже первый стих выделяет сочетание фонем «го» как основной носитель значения в имени «Гойя».
В произношении стиха: «я — го — я» фонетическое тождество первого и последнего элементов воспринимается в силу неразделимости в поэзии планов выражения и содержания как семантическая тавтология (я — я). Носителем основного семантического значения становится элемент «го». Конечно, смысловое значение фонологической организации первого стиха реализуется лишь в отношении к другим стихам, а выделенность группы «го» в пределах отдельно взятого «я — Гойя» существует лишь потенциально. Однако это выделение отчетливо реализуется в сопоставлении с последующими стихами:
Мы можем отметить, что между словами «Гойя», «Горе», «голод» устанавливается состояние аналогии. Они приравниваются, каждое порознь, общему элементу «я». При этом очень существенно, что все три стиха образуют однотипные синтаксические конструкции, в которых роль второго члена уравнена. Не только синтаксическое положение, но и фонологический параллелизм (повторение группы «го») заставляет воспринимать эти слова как взаимосоотнесенные семантически. Из объема этих значений выделяется общее семантическое ядро — архисема. Значение ее усложнено параллелизмом со стихами:
Войны, городов головни
на снегу сорок первого года…
Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой…
Вторая часть каждого из этих стихов функцией предикативности приравнена к «горе» и «голод» из названных выше стихов. Интересен звуковой повтор — «голос», «городов головни», «гооа», «горло», «года». К тому же словосочетание «голос войны», поддержанное той выделенностью фонемы «в», которая получается в результате повтора:
Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое… —
устанавливает между словами, модулирующими «в» и «г», отношение семантической соотнесенности. Следует отметить, что «г» в слове «ворог» особенно (151) структурно подчеркнуто, поскольку вся семантика слов и фразеологизмов «выклевал глазницы», «слетая» подводит к слову «ворон» (фонетически оно подготовлено словом «воронок»). Неназванное «ворон» и существующее «ворог» образуют соотнесенную пару, в которой семантическое различие выделяет фонемы «н — г», а совпадение группы «воро» устанавливает общность значений. Так образуется сложная конструкция содержания: «Поре», «голод», «голос войны», «городов и головни», «глазницы воронок», «горло повешенной бабы», «поле нагое» образуют взаимосоотнесенную структуру. Она, с одной стороны, возводится к архисеме — семантическому ядру, возникающему на пересечении полей значений каждой из основных семантических единиц. С другой стороны, происходит активизация признаков, отделяющих каждую из выделенных групп от общего для всех значения архисемы. То, что каждая из семантических единиц воспринимается в отношении к семантическому ядру, диктует в ряде случаев совершенно иное восприятие значения, чем если бы мы столкнулись с нею, изолированной от всего ряда.
Необходимо указать на еще одно соотношение. В разбираемом отрезке текста отчетливо выделяются две группы стихов.
Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.
Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой.
К этой группе примыкает стих:
Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.
Обе группы стихов уравнены, как мы отмечали, параллельностью синтаксической конструкции (распространенность во втором случае предикативной группы лишь подчеркивает родство их синтаксических структур). Мы уже установили также и соотнесенность звуковой организации элементарных лексических единиц обеих групп.
Однако, с другой стороны, общность лишь подчеркивает отличие, существующее между этими группами стихов. Короткие строки требуют совершенно иного дыхания, следовательно, темпа и интонации, чем длинные. Но разница не только в этом: «горе» и «голод» — существительные отвлеченные. Приравненное к ним «я» выступает как нечто значительно более конкретное, единичное. «Длинные» стихи в этом отношении сложнее. Предикат здесь не только конкретен — он представляет собой обозначение части, причем именно части человека, его тела (ср.: «горло», «голос», «глазницы»). В соотношении с ним субъект «я» выступает как нечто более общее и абстрактное. Но (152) одновременно предикат оказывается включенным в метафорический ряд — «голос войны» (ср.: «глазницы воронок»; рядом с ними и «горло повешенной бабы» воспринимается как символический знак более обобщенного содержания). Создается антропоморфный метафорический образ («голос», «глазницы», «горло»), одновременно составленный из деталей военного пейзажа — «воронки», «поле нагое», «городов головни на снегу сорок первого года». Эти два ряда синтезируются в образе «площади голой» и повешенной над ней бабы. Все эти образно-семантические ряды сходятся к одному центру: они приравнены «я», авторскому субъекту. Однако это равенство — параллелизм, а не тождество. Поскольку предикаты в каждой из групп стихов, и в каждом стихе в отдельности, не тождественны, а лишь параллельны, включают и общность и различие, поскольку не равны и эти, следующие друг за другом «я»: «я» каждый раз приравнивается новой семантической структуре, то есть получает новое содержание. Раскрытие сложной диалектики наполнения этого «я» — один из основных аспектов стихотворения. Предикат выступает здесь как модель субъекта, и сопротивопоставление предикатов, конструирующее очень сложную систему значений — образ трагического мира войны, — одновременно моделирует образ авторской личности. И когда А. Вознесенский подводит итог первой части стихотворения стихом «Я — Гойя!», то субъект его вбирает все «я» предшествовавших стихов со всеми их различиями и пересечениями, а предикат суммирует все предшествующие предикаты. Это делает стих «Я — Гойя!» в середине текста отнюдь не простым повторением первой строки, а, скорее, ее антитезой. Именно в сопоставлении с первым стихом, в котором и «я» и «Гойя» имеют лишь общеязыковые значения, раскрывается та специфическая семантика этих слов, которую они получают в стихотворении Вознесенского, и только в нем.
Аналогичный анализ можно было бы проделать и со второй половиной стихотворения, показав, как рождается значение итогового стиха «Я — Гойя». Можно было бы, в частности, отметить, что все элементы различия при повторе (например, то, что первые два стиха «Я — Гойя» даны с восклицательной интонацией, а последний — без нее) становятся носителями значений.
Сейчас достаточно подчеркнуть более частную мысль: звучание в стихе не остается в пределах плана выражения — оно входит как один из элементов в сопротивопоставление слов в поэзии по законам не языкового, а изобразительного знака, то есть в построение структуры содержания.
Образование архисем не есть процесс противологического характера. Он вполне поддается точному научному анализу. Но, изучая его, необходимо постоянно иметь в виду, что в поэтическом тексте в силу отмеченной раз-дробленности-нераздробимости слова на фонемы отношение выражения к содержанию складывается решительно иначе, чем в нехудожественном. Во втором случае никакой связи, кроме историко-конвенциональной, установить нельзя. В первом случае (поэтический текст) устанавливается определенная связь, в силу которой само выражение начинает восприниматься как изображение содержания. В этом случае знак, оставаясь словесным, приобретает черты изобразительного (иконографического) сигнала. (153)
Следует особо подчеркнуть, что раздробление слов на фонемы, равно как и образование окказиональных значений слов в результате сопротивопоставления фонем и просодических единиц, осуществляется не только в случаях, когда текст нарочито инструментован. Сама природа ритмической структуры делит текст на единицы, не совпадающие с семантическими, но приобретающие в стихе семантику. Скандовка как реальность или как возможность, на фоне которой воспринимается поэтическая реальность, постоянно присутствует в сознании читателя. Не случайно дети начинают чтение (и восприятие) стихов со скандовки. В таком виде стихи им кажутся более звучными. Показательны и данные истории стиха.
Для русской силлабики характерно чтение «по слогам». Все слоги читались как ударные, а вдох должен был совпадать с одной из межслоговых пауз. Б. В. Томашевский, анализируя рифмовку русских силлабиков, приходит к выводу: «Подобные явления объяснимы только крайней ослабленностью противопоставления ударного слога неударному, то есть при условии „чтения по слогам“. В дальнейшем, несомненно, манера чтения должна была измениться, откуда и идея тонического стиха, противополагающего ударный слог неударному».[121]
Таким образом, в силлабике ударность не могла стать дифференцирующим признаком именно потому, что все слоги были ударными.[122] Это вызывало неизбежные паузы между слогами, но одновременно практически отменяло словоразделяющие паузы. Стихи Симеона Полоцкого читались следующим образом (знак || — пауза и вдох): фи — ло — соф — вху — дых — ри — зах || о — быч — но — хо — жда — ше || Е — му — же — во — двор — цар — ский || нуж — да — не — ка — бя — ше.
(Философ в худых ризах обычно хождаше,
Ему же во двор царский нужда нека бяше)
Та же тенденция на иной основе проявляется и у некоторых поэтов XX в. (Маяковский, Цветаева). В поэзии Цветаевой стремление подчеркнуть слогораздел находит порой и графическое выражение:
…Бой за су — ще — ство — ванье…
…Без вытя — гивания жил.
…Право — на — жительственный свой лист
Однако дело не в том, выявлена или нет в скандовке ритмическая природа стиха. Когда мы скандируем стихи, границы лексических единиц, не выявленные в произношении, отчетливо существуют в сознании и коррелируют с реальными паузами, дробя звукоряд. Когда мы читаем стихи, руководствуясь лексико-смысловыми паузами, в сознании сохраняются ритмические паузы, которые сохраняют свою реальность «минус-приемов». (154)
Наконец, следует оговориться, что случай, при котором мы в качестве примера соотнесенности фонем взяли повторяемость одного и того же звука или групп звуков («Гойя» Вознесенского), избран нами лишь из соображений наглядности. Все фонемы языка воспринимаются во взаимной соотнесенности, в системе, которая в стихе становится структурой содержания, национального своеобразия, как план выражения в языке. Поскольку национально-своеобразная фонологическая структура текста становится в поэзии основой конструкции понятий, непереводимо-национальная природа сознания выражается в поэзии с значительно большей силой, чем в нехудожественном тексте или даже прозе.
Знак в литературе остается словесным. Он не воспринимается человеком, не владеющим данной языковой структурой. И все же по принципу соотношения содержания и выражения он приближается к изобразительным знакам. Слова естественного языка как коммуникативной структуры составлены из элементов низших уровней, которые лишены собственного лексического значения. В поэтическом тексте структура выражения становится в силу продемонстрированной выше лексико-семантической значимости фонем (и морфем) структурой содержания. Вследствие включения элементов низших уровней в процесс смыслообразования возникают окказиональные семантические оппозиции, окказиональные «архисемы», невозможные вне данной текстовой структуры выражения. (Поэтому, кстати, самый точный перевод поэтического текста воспроизводит структуру содержания лишь в той ее части, которая обща у поэтической и непоэтической речи. Те же семантические связи и противопоставления, которые возникают в результате семантизации структуры выражения, заменяются иными. Они непереводимы, как непереводимы идиомы в структуре содержания. В силу сказанного применительно к поэтическому тексту правильнее говорить не о точном переводе, а о стремлении к функциональной адекватности.)
Необходимо отметить еще одно обстоятельство. При «передаче» лексического смысла составляющим слово фонемам и — вследствие этого — при образовании сложной системы внутритекстовых семантических оппозиций не все фонологические элементы, образующие данную лексику, ведут себя одинаково.
Специфика поэтического текста, в частности, состоит и в том, что неструктурные, свойственные речи, а не языку, элементы приобретают в нем структурный характер. В результате не все звуковые элементы стиха оказываются одинаково нагруженными семантически. Одни из них семантически редуцируются, другие подчеркиваются, вступая в различные оппозиционные соотношения. Однако поэтическая структура не просто возводит речь в ранг языка, придавая неструктурным элементам характер структурных. Она решительно меняет соотношение степени информативности элементов внутри речи: те из них, которые в нехудожественном сообщении избыточны, в стихе могут стать семантически нагруженными. Семантически бедные элементы речи (например, конец слова в письменном тексте) в особом структурном положении (например, при появлении рифмы, которая — явление письменной поэзии и архаическому фольклору неизвестна) получают несвойственную им информационную нагруженность. Отсюда еще одна важная особенность поэзии. Поэтическая речь не является письменной, как полагали сторонники буквенной филологии. Но это и не устная речь, как считали сторонники фонетического метода. Поэтическая структура современной поэзии, в отличие от фольклора, — отношение устного текста к письменному, устный на фоне письменного. Поэтому, в частности, графическая природа текста отнюдь не безразлична для его понимания.
Читайте также
5. Конструктивные принципы текста
5. Конструктивные принципы текста Выше мы говорили о потенциальной возможности для поэтического текста перевести любое слово из резерва смысловой емкости (h1) в подмножество, определяющее гибкость языка (h2), и наоборот. С этим органически связано построение текста по
НЕСВЯЗНЫЕ СТРОКИ
НЕСВЯЗНЫЕ СТРОКИ Вечереет, и белый покров Там, за лесом, встает в полусне. Нет прозрений и вещих снов. Я сижу между сосен на пне. Ткется белый туман на лугу, Горький запах несется с болот, Я сегодня опять не усну, Не забудусь всю ночь напролет. Буду долго и кротко
Сюжет второй «ВАШИ СТРОКИ О НЕМ ОТОЗВАЛИСЬ НА МНЕ СПАСИТЕЛЬНО»
Сюжет второй «ВАШИ СТРОКИ О НЕМ ОТОЗВАЛИСЬ НА МНЕ СПАСИТЕЛЬНО» Какие строки тут имеются в виду, сомнений не вызывает. Речь идет о знаменитой сталинской формуле: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Радость Пастернака по
Глава 2 НОВОСТРУКТУРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ РОМАНА: «ХАЗАРСКИЙ СЛОВАРЬ» М. ПАВИЧА
Глава 2 НОВОСТРУКТУРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ РОМАНА: «ХАЗАРСКИЙ СЛОВАРЬ» М. ПАВИЧА Аналогично «Бледному огню» — по внежанровому принципу организации материала — «ароманом» можно назвать и «Хазарский словарь» (1984) современного сербского писателя Милорада
Строки из писем 1841 года
Строки из писем 1841 года Весть о том, что Лермонтов убит на дуэли Мартыновым, дошла до Москвы и до Петербурга в конце июля — начале августа с кавказской почтой и распространилась среди читающей публики только благодаря частным письмам. Напрасно тогдашний читатель
От бабочки к мухе: метаморфозы поэтической энтомологии Иосифа Бродского
От бабочки к мухе: метаморфозы поэтической энтомологии Иосифа Бродского [388]В 1972 году[389] – в тот год, когда он покинул отечество, – Иосиф Бродский написал стихотворение «Бабочка», исполненное изумления перед зачаровывающей красотой. Бабочка нерукотворна, мало того, и в
IV. Принципы построения сюжета
IV. Принципы построения сюжета Что такое сюжет?Сюжет — это «изложение событий».Красная Шапочка отправляется в лес, встречает там волка, идет к бабушке, снова видит волка, принимает его за бабушку, спрашивает: «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?», тут
О том, что такое фольклор, и о поэтической мудрости народа
О том, что такое фольклор, и о поэтической мудрости народа Мы уже говорили с тобой о том, как начала зарождаться поэзия. Объясняя стихийные бедствия гневом богов, люди задумывались и над тем, чтобы привлечь их на свою сторону: не только избежать их гнева, но добиться их
«Двух соловьев поединок»: О поэтической глухоте в «Определении поэзии» Бориса Пастернака[**]
«Двух соловьев поединок»: О поэтической глухоте в «Определении поэзии» Бориса Пастернака[**] В стихотворении Пастернака «Определение поэзии» (из цикла «Занятья философией» книги «Сестра моя — жизнь») поэзия «определяется» как звуки и эмоции, прежде всего связанные с