Что такое синхроническое языкознание
Диахрония и синхрония
Диахрония и синхрония — два противопоставленных аспекта исторической лингвистики. Наиболее подробно их рассмотрел Фердинанд де Соссюр.
Диахрони́я (от греч. δια «через, сквозь» и греч. χρονος «время») — рассмотрение исторического развития тех или иных языковых явлений и языковой системы в целом как предмет лингвистического изучения.
Противопоставляется синхронии (от греч. συν «совместно» и греч. χρονος «время») — рассмотрение состояния языка как установившейся системы в определенный момент времени. Термин получил распространение также в семиотике, литературоведении и других общественных науках в значении исторического подхода к исследуемым явлениям.
Основной тезис де Соссюра состоит в том, что «в каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого» [1]
См. также
Примечания
Литература
Полезное
Смотреть что такое «Диахрония и синхрония» в других словарях:
ДИАХРОНИЯ И СИНХРОНИЯ — (от греч. через и время; одновременный), понятия, характеризующие историч. последовательность развития явлений в некрой области действительности (диахрония) и сосуществование, состояние этих явлений в определ. момент времени (синхрония).… … Философская энциклопедия
СИНХРОНИЯ — [ Словарь иностранных слов русского языка
ДИАХРОНИЯ — [ Словарь иностранных слов русского языка
диахрония — и, ж. diachronie f. <гр. dia через+ chronos время. 1. Разновременность процессов в сравнении. Диахрония порождается не только разницей во времени вступления, например, России и Франции в эпоху феодализации. ВИ 1997 12 5. Забудь вчерашний день … Исторический словарь галлицизмов русского языка
СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ — (от греч. syn вместе, dia через, сквозь и chronos время) понятия, характеризующие, соответственно, состояние системы, ее функционирование в данный момент, ее историю и развитие от стадии к стадии. Впервые введены основателем структурной… … Философская энциклопедия
СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ — (synchrony and diachrony) 1. (Лингвистика) различие между изучением языка как существующей системы отношений, причем независимо от прошлого (синхрония), и изучением изменений в нем через какое то время (диахрония). См. также Соссюр. 2.… … Большой толковый социологический словарь
Диахрония — (от греч. diá через, сквозь и chrónos время) 1) совокупность методов языкознания, направленных на изучение фактов языка в их историческом развитии. 2) Соответствующая область общей лингвистики, противопоставляемая синхронии (См.… … Большая советская энциклопедия
Синхрония — (от греч. sýnchronós одновременный) рассмотрение языка (или какой либо другой системы знаков) с точки зрения соотношений между его составными частями в один период времени. Исследование языка в С. достигло высокого уровня ещё в… … Большая советская энциклопедия
диахрония — и; ж. [от греч. dia через и chronos время] Спец. Последовательность появления и развития каких л. явлений во времени как предмет научного изучения. Синхрония и д. языка. Рассматривать развитие растительности в диахронии. ◁ Диахронический, ая, ое … Энциклопедический словарь
ДИАХРОНИЯ — (diachrony) см. Синхрония и диахрония … Большой толковый социологический словарь
СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ



В XIX в. достойным объектом лингвистики как науки считали древние языки и поиски “праязыка”. Изучение живых языков предоставляли школе, резко отграничивая эту область от науки. Успехи диалектологии, описывающей живые говоры, изучение языков народов, живущих в колониальной зависимости, и потребность в более серьезной постановке преподавания родного и иностранных языков выдвинули перед лингвистами новые задачи: создать методы научного описания данного состояния языка без оглядки на его происхождение и прошлое.
Основной его тезис состоит в том, что “в каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему, и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого”. Отсюда вытекает идея синхронии и диахронии.
| Эпоха А (древнерусская) | Краткое прилагательное | Существительное |
| собирательное | ||
| гол-ъ гол-ь | ||
| Эпоха Б (современная) | гол гол’ |
Другой аналогичный пример приведем из французского языка
| Эпоха А (старофранцузская) | Прилагательное мужского рода | Прилагательное женского рода |
| fin [фин] fine [фине] | ||
| Эпоха Б (современная) | fin [фẽ] fine [фин] |
Третий пример из английского языка
| Эпоха А | Единственное число | Множественное число |
| (западногерманская) | ||
| fot [фот] foti [фоти] | ||
| Эпоха Б | foot [фут] feet [фит] | |
| (современный английский язык) |
Таким образом, по де Соссюру, синхрония связана с системой, но изъята из отношений времени, диахрония же связана с временем, но изъята из отношений системы. Иными словами: «. диахрония рассматривается как область единичных явлений, а язык как система изучается лишь в сфере синхронии. Иначе говоря, развитие языка изображается как изменение лишь отдельных единичных явлений, а не как изменение системы, тогда как система изучается лишь в ее данности в определенный момент. ».
На основании такого понимания Соссюр делает вывод, что синхронию и диахронию в языке должны изучать две разные науки.
В чем здесь прав и в чем не прав Соссюр?
В такой постановке речь идет только о пользовании языком и о систематизации его функционирования в описательном языковедении, а не о познании его развития.
При любом изучении мы не можем забывать, что основное требование диалектики в науке состоит в том, чтобы изучать явления и в связи, и в развитии. Разрыв синхронии и диахронии, провозглашенный Соссюром, дважды нарушает это положение. Ибо его синхроническое изучение языка рассматривает явления в связи, но вне развития, а диахроническое изучение рассматривает явление в развитии, но вне связи. Справедливо, в ответ на это И. Смирницкий писал:
1) Изменение любой единицы происходит не как изменение изолированной единицы, не как изолированного факта, а как части системы. Следовательно, линия синхронии, т.е. одновременно существующей системы, не может не приниматься во внимание при изучении изменений языка, т.е., при диахроническом изучении.
В результате разрыва синхронии и диахронии, ввиду явной бесплодности диахронического изучения выдернутых из системы изолированных фактов, многие зарубежные последователи Соссюра совсем исключили фактор времени из изучения языка.
Каков же правильный выход из данного положения? Конечно не возврат к старому не различению бывшего и настоящего, сосуществующего в системе и следующего одно на смену другому времени, и, прежде всего не отказ от понятия системы.
Об этом ложном шаге А.И. Смирницкий писал: «. подменять определение существующего соотношения определением того, из чего оно получилось, означало бы смешение прошлого с настоящим, допущение анахронизма, следовательно, было бы антиисторическим подходом».
Две «оси», намеченные Соссюром, действительно взаимно исключают друг друга, и никакой речи об их «единстве» быть не может. Это два различных аспекта. Но противопоставление их неравномерно, так как синхронический аспект для целого ряда лингвистических потребностей может быть самодовлеющим и исчерпывающим (для составления алфавитов, реформирования орфографии, выработки транскрипции и транслитерации, для машинного перевода, наконец, для составления нормативных описательных и сопоставительных грамматик, а также для разработки методики обучения родному и неродному языку), тогда как диахронический аспект лишь подсобный, вспомогательный прием изучения истории языка. Ни в коем случае нельзя отожествлять диахронию и историю языка, так как диахрония может показать лишь развертывание и эволюцию отдельных, разрозненных, не связанных в систему и изолированных от структуры языка фактов.
Но так как язык в каждом ярусе своей структуры образует систему, все моменты которой взаимосвязаны и только в силу этого получают свою характеристику, то подлинная история языка в целом, используя предварительные данные диахронического описания, должна быть изложена в аспекте минимум двусинхронном: эпохи А и эпохи Б. Тогда предварительно найденные диахронические факты превратятся в историко-синхронические, и язык в своей истории предстанет как структура и система.
Итак, следует изучать и понимать язык как систему не только в его настоящем, но и в его прошлом, т.е. изучать его явления и в связи друг с другом, и в развитии одновременно, отмечая в каждом состоянии языка явления, уходящие в прошлое, и явления, нарождающиеся на фоне стабилизовавшихся, нормальных для данного состояния языка явлений.
Абстракция в языке присутствует в любом языковом факте, без этого язык не мог бы быть «языком». Но ее роль и ее характер в разных ярусах структуры языка различны.
Эти отличия качества лексической, грамматической и фонетической абстракции и предопределяют различие единиц разных ярусов языковой структуры.
Синхроническая лингвистика



Выводы
Так лингвистика подходит ко второму разветвлению своих путей. Сперва нам пришлось выбирать между языком и речью, теперь же мы у второго перекрестка, откуда ведут две дороги: одна в диахронию, другая в синхронию.
Используя этот двойной принцип классификации, мы можем прибавить, что все диахроническое в языке является таковым через речь. В речи источник всех изменении; каждое из них первоначально, прежде чем войти в общее употребление, начинает применяться некоторым количеством индивидов. Теперь по-немецки говорят: ich war, wir waren (я был, мы были), тогда как в старом немецком языке до XVI в. спрягалось: ich was, wir waren (по-английски до сих пор говорят: I was, we were). Каким же образом произошла эта перемена: war вместо was? Отдельные лица под влиянием waren по аналогии создали war; это был факт речи; такая форма, часто повторявшаяся, была принята коллективом и стала фактом языка. Но не все новшества речи увенчиваются таким успехом, и, поскольку они остаются индивидуальными, нам нечего принимать их во внимание, так как мы изучаем язык; они входят в поле нашего наблюдения лишь с момента принятия их коллективом.
Факту эволюции всегда предшествует факт или, вернее, множество сходных фактов в сфере речи; это ничуть не порочит установленного выше различения, которое этим только подтверждается, так как в истории всякого новшества мы встречаем всегда два раздельных момента: 1) момент появления его у индивидов и 2) момент его превращения в факт языка, когда оно, по внешности оставаясь тем же, принимается коллективом.
Нижеприводимая таблица показывает ту рациональную форму, которую должна принять лингвистическая наука:


Речевая деятельность Диахрония
Следует признать, что теоретическая и идеальная форма науки не всегда совпадает с той, которую навязывают ей требования практики. В лингвистике эти требования практики еще повелительнее, чем в других науках; они до некоторой степени оправдывают ту путаницу, которая в настоящее время царит в лингвистических исследованиях. Даже если бы устанавливаемые нами различения и были приняты раз и навсегда, нельзя было бы, быть может, во имя этого идеала связывать научные изыскания чересчур точными установками.
Так, например, производя синхроническое обследование старофранцузского языка, лингвист оперирует такими фактами и принципами, которые ничего не имеют общего с теми, которые ему открыла бы история этого же языка с XIII до XX в.; зато они сравнимы с теми фактами и принципами, которые обнаружились бы при описании одного из нынешних языков банту, греческого аттического языка за 400 лет до н. э. или, наконец, современного французского. Дело в том, что все такие описания покоятся на схожих отношениях; хотя каждый отдельный язык образует замкнутую систему, все они предполагают наличие некоторых постоянных принципов, на которые мы неизменно наталкиваемся, переходя от одного языка к другому, так как всюду продолжаем оставаться в одном и том же порядке явлений. Совершенно так же обстоит и с историческим исследованием: обозреваем ли мы определенный период в истории французского языка (например, от XIII до XX в.), или яванского языка, или любого другого, всюду мы имеем дело со схожими фактами, которые достаточно сопоставить, чтобы установить общие истины диахронического порядка. Идеалом было бы, чтобы каждый ученый посвящал себя тому или другому разрезу лингвистических исследований и охватывал возможно большее количество фактов соответствующего порядка, но представляется весьма затруднительным научно владеть столь разнообразными языками. С другой стороны, каждый язык представляет практически одну единицу изучения, так что силой вещей приходится рассматривать его попеременно и статически и исторически. Все-таки никогда не нужно забывать, что теорети-
чески это единство отдельного языка как объекта изучения есть нечто поверхностное, тогда как различия языков таят в себе глубокое единство. Пусть при изучении отдельного языка наблюдение захватывает и одну сферу и другую, всегда надо знать, к которой из них относится разбираемый факт, и никогда не надо смешивать методы.
Разграниченные нами таким образом обе части лингвистики послужат одна за другой объектом нашего исследования.
Синхроническая лингвистика займется логическими и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие элементы и образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием.
Диахроническая лингвистика, напротив, будет изучать отношения, связывающие элементы в порядке последовательности, не воспринимаемой одним и тем же коллективным сознанием, — элементы, заменяющиеся одни другими, но не образующие системы.
В задачу общей синхронической лингвистики входит установление основных принципов всякой идиосинхронической системы, конститутивных факторов всякого состояния (статуса) языка. Многое из того, что нами уже было изложено, относится скорее к синхронии; так, общие свойства знака могут рассматриваться как составная часть этой последней, хотя они нам и послужили для доказательства необходимости различать обе лингвистики.
К синхронии относится все, что называется «общей грамматикой», ибо только через отдельные состояния языка устанавливаются те различные отношения, которые входят в компетенцию грамматики. В дальнейшем изложении мы ограничимся лишь основными принципами, без которых не представляется возможным ни приступить к более широким проблемам статики, ни объяснить детали данного состояния языка.
Говоря вообще, гораздо труднее заниматься статической лингвистикой, чем историей. Факты эволюции более конкретны, они больше говорят воображению; наблюдаемые в них отношения завязываются между последовательно сменяющимися моментами, уловить которые нетрудно; легко, а иногда и занятно следить за рядом превращений. Та же лингвистика, которая оперирует сосуществующими значимостями и отношениями, представляет гораздо больше затруднений.
В действительности «состояние» языка не есть математическая точка, но более или менее длинный промежуток времени, в течение которого сумма происходящих видоизменений остается ничтожно малой. Это может равняться десяти годам, смене одного поколения, одному столетию, даже. больше. Случается, что в течение
сравнительно долгого промежутка язык еле меняется, а затем в какие-нибудь несколько лет испытывает значительные превращения. Из двух сосуществующих в одном периоде языков один может сильно эволюционировать, а другой почти вовсе не изменяться; для второго необходимо будет синхроническое изучение, для первого потребуется диахронический подход. Абсолютное «состояние» определяется отсутствием изменений, но поскольку язык всегда, как бы ни мало, все же преобразуется, постольку изучать язык статически на практике — значит пренебрегать маловажными изменениями, подобно тому как математики при некоторых операциях, например при вычислении логарифмов, пренебрегают бесконечно малыми величинами.
В политической истории различаются: эпоха — точка во времени, и период, охватывающий некоторый промежуток времени. Однако историки сплошь и рядом говорят об эпохе Антонинов, об эпохе крестовых походов, разумея в данном случае единство признаков, сохранявшихся в течение соответствующего срока. Можно было бы говорить и про статическую лингвистику, что она занимается эпохами; но термин «состояние» («статус») лучше. Начала и концы эпох обычно отмечаются какими-либо переворотами, более или менее резкими, направленными к изменению установившегося порядка вещей. Употребляя термин «состояние», мы тем самым отводим предположение, будто в языке происходит нечто подобное. Сверх того, термин «эпоха» именно потому, что он заимствован у истории, заставляет думать не столько о самом языке, сколько об окружающей и обусловливающей его обстановке; одним словом, он вызывает скорее всего представление о том, что мы назвали внешней лингвистикой.
Впрочем, разграничение во времени не есть единственное затруднение, встречаемое нами при определении понятия «состояние языка»; такой же вопрос встает и относительно пространственного отграничения. Короче говоря, понятие «состояние языка» не может не быть приблизительным. В статической лингвистике, как и в большинстве наук, невозможно никакое рассуждение без условного упрощения данных.
КОНКРЕТНЫЕ СУЩНОСТИ ЯЗЫКА
Сущность (entite) и единица (unite)
Входящие в состав языка знаки суть не абстракции, но реальные объекты; их именно и их взаимоотношения изучает лингвистика; их можно назвать конкретными сущностями этой науки.
1. Языковая сущность (языковой факт) существует лишь в силу ассоциации между означающими и означаемым; если упустить
один из этих элементов, она исчезнет, и вместо конкретного объекта перед нами будет только чистая абстракция. Ежеминутно мы рискуем овладеть лишь частью этой сущности, воображая, что мы охватываем ее целиком; это, например, неизбежно случится, если мы станем делить речевую цепь на слоги; у слога есть значимость только в фонологии. Ряд звуков лишь в том случае является языковой величиной, если он является носителем какой-либо идеи; взятый в самом себе, он только материал для физиологического исследования.
То же верно и относительно означаемого, как только его отделить от его означающего. Такие понятия, как «дом», «белый», «видеть» и т. п., рассматриваемые сами в себе, относятся к психологии; они становятся языковыми сущностями лишь при ассоциации с акустическими образами; в языке понятие есть качество звуковой субстанции, а определенное звучание есть качество понятия.
Часто сравнивали это двуликое единство с единством человеческой личности, состоящей из тела и души. Сближение мало удовлетворительное. Лучше его сравнивать с химическим соединением, например с водою, состоящей из водорода и кислорода; взятый в отдельности, каждый из этих элементов не имеет никаких свойств воды.
2. Языковая сущность (языковой факт) определяется полностью лишь тогда, когда она отграничена, отделена от всего, что ее окружает в звуковой цепи. Эти-то отграниченные сущности, или единицы, и противополагаются друг другу в механизме языка.
На первый взгляд кажется естественным уподобить языковые знаки зрительным (визуальным) знакам, которые могут сосуществовать в пространстве, не смешиваясь; при этом создается ложное представление, будто разделение значимых элементов может производиться таким же способом, не требуя никакой умственной деятельности. Термин «форма», часто используемый для их обозначения (ср. выражения «глагольная форма», «именная форма»), способствует сохранению этого заблуждения. Но, как мы знаем, основным свойством звуковой цепи является ее линейность. Звуковая цепь, рассматриваемая сама в себе, есть линия, непрерывная лента, где ухо не различает никаких ясных и точных делений; чтобы найти эти деления, надо прибегнуть к значениям. Когда мы слышим неизвестный язык, мы не в состоянии решить, как должна быть анализирована эта последовательность звуков; дело в том, что такой анализ невозможен, если принимать во внимание лишь звуковой аспект языкового феномена. Но когда мы знаем, какой смысл и какую роль нужно приурочить к каждой части звуковой цепи, тогда для нас эти части обособляются друг от друга и бесформенная лента распадается на куски; в этом анализе нет ничего материального.
Итак, язык не представляется совокупностью заранее разграниченных знаков, значения и распорядок которых только и
требуется изучать; в действительности он представляет нераздельную массу, где только внимательность и привычка могут различить составные элементы. Языковая единица не обладает никаким специальным звуковым характером, и единственным ее определением может быть следующее: отрезок звучания, являющийся, с исключением того, что ему предшествует, и того, что за ним следует, в речевой цепи «означающим» некое понятие.
Диахроническое и синхроническое языкознание
Языковая система может изучаться в каком либо одном временном срезе, т.е. быть предметом синхронической лингвистики. Синхроническое языкознание описывает состояние системы языка на определенном этапе исторического развития.
Изучение языка может быть направлено на прослеживание исторических изменений в составе и структуре фонологических, морфологических, лексических или синтаксических компонентов, и тогда языковая система оказывается объектом диахронической (исторической) лингвистики. Диахроническое языкознание изучает развитие отдельных языковых явлений или системы языка в целом в исторической последовательности.
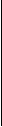
 |
Соссюр считал, что ось одновременности (АВ) касается отношений между сосуществующими вещами, оттуда исключено всякое вмешательство времени. На оси последовательности (СД) никогда нельзя увидеть больше одной вещи сразу. На этой оси располагаются все явления первой оси со всеми их изменениями.
Разновидностью диахронического языкознания является сравнительно-историческое языкознание (компаративистика). Оно изучает историческое прошлое языков с помощью сравнительно-исторического метода, суть которого заключается в восстановлении незафиксированных прошлых языковых фактов путем сравнения их с соответствующими фактами, известными по письменным памятникам или живому употреблению в сопоставляемых языках. Сравнительно-исторический метод позволяет установить генетическое тождество языковых единиц, а следовательно, и родство языков.
Можно ли лингвистам “снять” время и стать на путь ахронии? Ахронисты пытаются изъять язык из любого времени и видеть в языке только код. Следует иметь в виду, что сознательный отход в известных аспектах лингвистических исследований от хроноса не означает вообще исключение хроноса.
Диахрония и синхрония – это всегда хронии. Любая синхрония исторична. Момент времени в ней приводится с нулевым показателем.
Диахрония синхронична. В любой хронии язык остается системой и структурой. Факты языка обладают подлинной исторической реальностью лишь как члены системы и структуры.
8. Из истории языкознания
Дж.Лайонз замечает, что знакомство с лингвистикой лучше всего начинать с истории этой науки. Лингвистика, как и любая другая наука, стоит на фундаменте, заложенном в далеком прошлом. В истории лингвистики можно найти примеры верных догадок о языке, заложивших основы современной лингвистики.
Те древние источники, которые сохранились, позволяют проследить развитие учения о языке, начиная от Платона. Следует отметить, что тот подход к науке о языке, который именуется как «традиционная грамматика», подобно многим другим наукам, зародился в Древней Греции в 5 в до н.э. У греков грамматика относилась к философии, т.е. составляла часть общего исследования сущности окружающего мира. Одним из важнейших вопросов греческой философии был вопрос о том, устроен язык «по природе» или «по обычаю». Устроенными «по природе» считались те явления, сущность которых, вечная и неизменная, лежит вне человека. Устроенными «по обычаю» считались те явления, которые приняты в силу определенных обычаев и традиций, т.е. в силу подразумеваемого соглашения между членами общества. Применительно к языку антиномия «по природе» vs. «по обычаю» была сведена к вопросу о том, существует ли необходимая связь между значением и формой слова. Приверженцы «природного» взгляда на язык утверждали, что каждое слово по природе соотносится с обозначаемой вещью. Признавалось существование различных способов «природной» связи: имитирование словами звуков животных, природных явлений и т.п. Считалось также, что определенные звуки выражают те или иные свойства предметов и явлений. Среди звуков выделялись нежные, резкие, жидкие, мужественные и др. Так, звук [ р] считался резким, следовательно, наличие [ р] в таких словах, как резать, рвать, реветь, рык и др., естественно, по природе, мотивируется их значениями.
В начале 3 в. до н.э. была основана Александрийская библиотека. Александрия становится центром исследования языка и литературы. Тексты древнейших эпох, особенно записи поэм Гомера, подверглись к тому времени сильным искажениям. Сравнивая разные рукописи одних и тех же произведений, александрийские ученые стремились восстановить оригинальный текст. Поскольку язык классических произведений существенно отличался от греческого языка в Александрии, появилось много комментариев к текстам и грамматических трактатов, объяснявших особенности языка более ранней эпохи. Восхищение великой литературой прошлого привело к тому что язык классической древности стал считаться более чистым и правильным. Грамматические труды греческих ученых преследовали двоякую цель: объяснение явлений классического языка и предотвращение порчи языка неграмотными и невежественными людьми.
Учение греков опиралось на письменные тексты. Устная речь считалась зависимой от письменной. Считалось, что чистоту языка сохраняют грамотные люди, а неграмотные портят язык.. Такое представление о языке продержалось более 2-х тысяч лет.
Греческая грамматика активно разрабатывалась в течение шести столетий, с 4 в до н.э. до 2 в. н.э.
Римляне во всех областях науки, в искусстве, литературе находились под сильным влиянием греческой культуры. Латинские грамматисты почти полностью восприняли греческие образцы. Сходство греческого и латинского языков утвердило точку зрения, согласно которой грамматические категории, древними греками являются универсальными для языка вообще. Латинские грамматики Доната и Присциана использовались в качестве учебников латыни до 17 в.
В средневековой Европе исключительно важное место в образовании занимала латынь. Хорошее знание латыни было необходимо как для светского, так и для церковного поприща. Латынь была не только языком Священного Писания и католической церкви, но и международным языком дипломатии, науки, культуры.
Для эпохи Возрождения характерен интерес к национальным языкам и литературе. Идеал гуманизма – цивилизация, противопоставляется варварству. Литература классической древности рассматривалась как источник всех культурных ценностей цивилизации. В этот период появляются грамматики национальных языков Классическое учение было перенесено на новые европейские языки.
В 1660 г. во Франции появилась «Всеобщая рациональная грамматика» (Грамматика Пор-Рояль) А.Арно и К.Лансло. Цель этой грамматики – доказательство того, что структура языка опирается на логические основы, а различные языки – это варианты одной логической рациональной системы.
Кроме греко-латинской традиции в античности возникла индийская традиция. Здесь также исследовались классические тексты, составлялись словари вышедших из употребления слов, комментарии к текстам. Древнеиндийские грамматисты изучали древние священные тексты – Ведийские гимны, написанные на санскрите. Ученые уделяли большое внимание изучению фонетики, так как необходимо было создать правила точного устного воспроизведения Ведийских гимнов. Древнеиндийская классификация звуков речи является более разработанной и точной, чем все известные нам классификации, которые предлагались в Европе вплоть до 18 в.
Грамматика Панини (4 в. до н.э.), по оценке Лайонза, по своей полноте, последовательности, лаконичности намного превосходит все грамматики, написанные вплоть до настоящего времени. Эта грамматика носит порождающий характер. Следуя правилам грамматики в установленном порядке, можно было порождать определенные речевые произведения.
Иногда считают, что научное исследование языка зародилось лишь в 19 в. Только в 19 в. факты стали предметом внимательного и объективного рассмотрения (Лайонз 1978). Научные гипотезы стали строиться на основе тщательно отобранных фактов. Был разработан специальный метод исследования фактов – сравнительно-исторический метод.
Выдвижение на первый план исторических обоснований было характерно в то время не только для языкознания, но и для других наук, как естественных, так и гуманитарных. Было отмечено, что все социальные институты – экономика, религия, законы, обычаи, языки и др. непрерывно изменяются. Стало описываться развитие указанных социальных институтов из некоторого предшествующего состояния, с учетом объективных внешних условий, вызвавших то или иное изменение. Появились эволюционные теории общественного развития.
В конце 18 в. было доказано, что санскрит, священный язык Индии, родственен древнегреческому, латыни и другим языкам. В 1786 г. У.Джонс отметил, что санскрит обнаруживает такое сходство в корнях и грамматических формах с названными языками, которое нельзя объяснить случайным совпадением. Это сходство настолько разительно, что нельзя не прийти к выводу, что эти языки имеют общий источник, который возможно уже не существует. Это открытие требовало научного объяснения. Необходимы были надежные методологические принципы для выявления родства языков.
Родственные языки происходят от одного общего языка-основы и входят в одну семью языков.. Чем дальше мы уходим в древность, тем меньше различий обнаруживается между сравниваемыми языками
Компаративисты опирались преимущественно на грамматические соответствия. Рассматривали слова основного словарного фонда, так как «культурные» слова часто заимствуются. Языки, находящиеся в географическом или культурном контакте, легко заимствуют слова друг у друга. Часто те или иные реалии или понятия, перенимаемые одним народом у другого, сохраняют свои исходные названия.
Ученые-компаративисты изучают не просто сходство языковых элементов, а системные соответствия. Системные соответствия между звуками эквивалентных слов в разных языках формулируются в виде звуковых законов.
Задачей сравнительно-исторического языкознания как ветви общей лингвистики является объяснение явлений языка. Оно призвано объяснить, что языки изменяются, что разные языки связаны друг с другом в различной степени. Факты изменения языка и большей или меньшей степени родства находят свое объяснение в тех или иных лингвистических гипотезах., которые могут быть пересмотрены в результате открытия новых фактов или применения новой трактовки фактов и нового способа а их классификации. Индоевропейская гипотеза (трактовка родства языков в пределах индоевропейской семьи) постоянно видоизменялась.
изучение языковой эволюции помогло осознать, что различного рода изменения, засвидетельствованные в письменных памятниках, древних надписях могут быть объяснены на основе гипотетически выводимых изменений в устной речи. Ранние компаративисты считали первичной письменную речь. Звуковые изменения описывались как изменения букв в слове. Буквы – это только символы для соответствующих звуков устной речи. В языке первичен звук, а не письменный знак. Сравнительно-историческое языкознание дало мощный толчок развитию фонетики.
Важным было также осознание истинного соотношения между языком и диалектом. Разнообразные местные диалекты стали пониматься не как несовершенные и искаженные варианты стандартного литературного языка, а как развивающиеся более или менее независимые варианты языка. Диалекты столь же систематичны с точки зрения грамматической структуры, произношения и словаря и столь же пригодны для общения (в пределах их использования), как и литературный язык. Разумеется, использование какого либо диалекта в таких важных областях, как литература, политика, философия и т.д., обычно приводит к расширению словаря и появлению все более детальных и тонких лексических различий, что необходимо для удовлетворения нужд всех этих областей.
Для большинства лингвистических теорий ХХ в. характерен принцип приоритета синхронного описания языка, который предполагает, что исторические соображения не существенны для исследования определенного состояния языка. Такой подход к анализу языка был провозглашен Ф.де Соссюром (1857-1913). Соссюр проводит аналогию с игрой в шахматы. В шахматной партии позиции на доске постоянно изменяются. Однако в каждый данный момент времени позиция полностью описывается указанием мест, занимаемых шахматными фигурами. Каким путем участники партии пришли к данной позиции (конкретные ходы, их число, очередность и т.п.) совершенно не важно для описания самой позиции. Она может быть описана синхронически, без обращения к предшествующим ходам. То же самое, по Соссюру, верно относительно языка.
Все языки постоянно изменяются, но состояния языка могут быть описаны независимо друг от друга. Каждое состояние языка может и должно быть описано само по себе безотносительно к тому, из чего оно развилось или что может из него развиться.
Понятие исторического развития языка (языкового изменения) наиболее плодотворно используется в макроскопическом масштабе, т.е. при сравнении достаточно удаленных друг от друга временных состояний (Лайонз 1978). В микроскопическом масштабе, т.е. при сравнении двух достаточно близких друг от друга языковых состояний языка, невозможно провести четкой границы между диахронической и синхронической вариативностью.
Ф.де Соссюр обратил внимание лингвистов на системность языка. Каждый язык представляет собой совокупность взаимосвязанных подсистем, которые образуют систему языка, систему отношений. Элементы языковой системы – звуки, слова и т.д. – имеют значимость лишь постольку, поскольку они находятся друг с другом в отношениях эквивалентности и противопоставленности.
Соссюр противопоставил язык и речь и призвал лингвистов вначале описать язык как наиболее стабильное в языковой деятельности. Что и было сделано в рамках системно-структурной парадигмы в ХХ в.
Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. Пер. с англ. М., 1978. С. 21-69.
Функции языка
Функции языка – это назначение, роль языка в человеческом обществе. Язык – полифункционален. Базовыми, главнейшими функциями языка являются коммуникативная (быть средством общения) и мыслительная, когнитивная (служить средством формирования и выражения мысли, деятельности сознания). Третья важная функция языка – эмоциональная (быть средством выражения чувств, эмоций). Базовые функции первичны. Кроме базовых функций выделяются и производные, частные, функции языка.
Коммуникативная (информативная) функция заключается в использовании языковых выражений с целью передачи и получения сообщений в межличностной и массовой коммуникации; с целью обмена информацией между людьми как участниками актов языковой коммуникации. Люди общаются, взаимодействуют во всех видах деятельности – трудовой, познавательной.
Коммуникация – это социальный процесс. Она служит формированию общества, выполняет связующую функцию. Коммуникативная деятельность – важнейший аспект социального поведения человека. В коммуникации осуществляется социализация, овладение опытом, языком.
Познавательная (когнитивная) функция заключается в использовании языковых выражений для обработки и хранения знаний в памяти индивида и общества, для формирования картины мира. С когнитивной функцией связаны обобщающая, классифицирующая и номинативная функции языковых единиц.
У языка есть интерпретативная (толковательная) функция, которая заключается в раскрытии глубинного смысла воспринятых языковых высказываний (текстов).
К числу производных функций коммуникативной функции языка относятся следующие функции: фатическая (контактоустанавливающая), апеллятивная (обращения), волюнтативная (воздействия) и др. Среди частных коммуникативных функций можно выделить также регулятивную (социативную, интерактивную) функцию, которая заключается в использовании языковых средств при языковом взаимодействии коммуникантов с целью обмена коммуникативными ролями, утверждения своего коммуникативного лидерства, воздействия друг на друга, организации успешного обмена информацией благодаря соблюдению коммуникативных постулатов и принципов.
У языка есть также магическая (заклинательная) функция, которая заключается в использовании языковых средств в религиозном ритуале, в практике шаманов, экстрасенсов и т.п.
Эмоционально-экспрессивная функция языка заключается в использовании языковых выражений для выражения эмоций, чувств, настроений, психических установок, отношения к партнерам по коммуникации и к предмету общения и т.д.
Выделяют также эстетическую (поэтическую) функцию, которая реализуется в основном в художественном творчестве, при создании художественных произведений.
Этнокультурная функция языка – это использование языка с целью объединения в единое целое представителей данного этноса как носителей одного и того же языка в качестве родного.
Метаязыковая (метаречевая) функция заключается в передаче сообщений о фактах самого языка и речевых актах на нем.
Итак, язык выполняет в обществе следующие социальные функции:
— коммуникативную (информативную) – обмен информацией между людьми;
— познавательную (когнитивную) обработка и хранение знаний в памяти индивида и общества, формирование картины мира;
— интерпретативную – раскрытие глубинного смысла текстов;
— регулятивную (социативную, интерактивную) – организация языкового взаимодействия коммуникантов, обмен коммуникативными ролями, утверждение коммуникативного лидерства;
— контактоустанавливающую (фатическую) – поддержание коммуникативного взаимодействия;
— эмоционально-экспрессивную – выражение эмоций, чувств, настроений, психологических установок, отношения к партнерам по общению и к предмету общения;
— эстетическую – создание художественных произведений;
— магическую («заклинательную») – использование в религиозном ритуале, в практике экстрасенсов;
— этнокультурную – объединение в единое целое представителей данного этноса как носителей одного и того же языка;
— аккумулятивную – хранение накопленного культурного опыта и передача из поколения в поколение;
— метаязыковую и метаречевую – передача сообщений о фактах самого языка и о речевых актах.
Кроме названных выше можно выделить и многие другие функции языка.
Разделы языкознания
В целостной системе языка выделяются компоненты, или подсистемы (уровни, ярусы), которые располагают своими наборами единиц и правил оперирования с ними в речи. К числу этих подсистем относятся: фонетико-фонологическая, морфологическая, лексико-семантическая, синтаксическая. Соответственно в языкознании выделяются в качестве относительно самостоятельных дисциплин, изучающих внутреннюю организацию языка, устройство его уровней:
Ряд дисциплин изучает взаимодействие соседних уровней:
лингвистика текста и др.
В качестве особых разделов выделяются:
семантика, семиология, изучающая значение, содержание языковых единиц;
прагматика, изучающая использование языковых единиц в речи для достижения тех или иных целей.
Выделяются также дисциплины, связанные с изучением исторического развития языка:
— функционирования языка в обществе, его общественных функции, проблем языка и культуры и т.п:
— порождения и восприятия речи, понимания текста, языкового сознания:





