Что такое пенализация и депенализация общественно опасных деяний
Криминализация и декриминализация, пенализация и депенализация, дифференциация уголовной ответственности и индивидуализация уголовного наказания как методы уголовной политики



Криминализация и декриминализация деяний. Криминализацию и декриминализацию деяний следует рассматривать как методы уголовно-правовой политики.
Криминализация — это признание посредством уголовного закона деяния общественно опасным и противодействие ему с учетом проводимой государством уголовно-правовой политики.
Декриминализация означает признание нецелесообразности уголовно-правового противодействия деяниям, общественная опасность которых отпала с учетом проводимой государством уголовно-правовой политики.
К принципам криминализации и декриминализации относятся:
— принцип достаточной общественной опасности криминализируемых деяний;
— возможности позитивного воздействия уголовно-правовой нормы на общественно опасное поведение;
— преобладания позитивных последствий в криминализации;
— неизбыточности уголовно-правового запрета;
Криминализация происходит вместе с появлением общественной опасности деяния, а при ее отсутствии наблюдается декриминализация.
Методом криминализации деяния является аналогия. Применение уголовного закона по аналогии, в том числе его расширительное толкование, не допускается.
Критерии общественной опасности могут изменяться со временем. Государство, исходя их своих интересов и законных интересов граждан, юридических лиц, чьи права оно защищает, выявляет, насколько то или иное деяние общественно опасно. Следствием такого анализа служит криминализация или декриминализация деяний.
В отличие от криминализации, являющейся исключительной прерогативой законодателя, область применения понятия пенализации несколько шире. Пенализация — это процесс определения характера наказуемости деяний, а также их фактическая наказуемость, т.е. процесс назначения уголовного наказания в судебной практике. Пенализация есть количественная сторона криминализации, ее показатель, мерило.
Депенализация есть неприменение наказания за совершение уже криминализованных деяний, а также установление в законе и применение на практике различных видов освобождения от уголовной ответственности или наказания. Тем самым депенализация существенно отличается от декриминализации.
Депенализация, если прибегнуть к традиционной терминологии, есть не что иное, как освобождение от уголовной ответственности и (или) от наказания.
Видами депенализации являются:
— освобождение от уголовной ответственности (ст. 75-78 УК);
— освобождение от наказания (ст. 80.1,81, УК);
— освобождение от отбывания наказания (ст. 73, 79, 82, 83 УК).
В правоприменительной практике перечисленные виды депенализации занимают все более заметное место, решают важные уголовно-политические задачи, демонстрируя гуманизм российского государства в конструировании системы мер исправления преступников без изоляции их от общества.
Российское уголовное право
Пенализация и депенализация
В отличие от криминализации, являющейся исключительной прерогативой законодателя, область применения понятия пенализации несколько шире. Пенализация — это процесс определения характера наказуемости деяний, а также их фактическая наказуемость, т.е. процесс назначения уголовного наказания в судебной практике. Пенализация есть количественная сторона криминализации, ее показатель, мерило.
Поскольку наказание является признаком, имманентно присущим преступлению, отнесение общественно опасного деяния к числу преступных означает вместе с тем и придание ему уголовной наказуемости. Вопрос, однако, в том, какой характер наказуемости придается преступлению. Вполне очевидно, что наказуемость криминализируемого деяния может носить вариативный характер!
Пенализация обладает и самостоятельной сферой. Под этим имеются в виду те достаточно распространенные случаи, когда наказание за уже криминализированное деяние подвергается законодателем изменению (ужесточению или смягчению). Правильнее только именовать этот процесс изменением интенсивности пенализации. Причем способы его могут быть различными — от изменения санкций статей Особенной части до внесения корректив в отдельные положения норм Общей части уголовного законодательства. Так, Законом РФ от 25 июля 1998 г. максимальный размер санкции ч. 1 ст. 223 УК был повышен до 4 лет лишения свободы при сохранении в неизменном виде диспозиции данной статьи.
Наиболее широкой сферой применения понятия пенализации является область судебной практики. Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что. фактическая наказуемость (или пенализация на практике) нередко расходится с законодательной. Попытка объяснения феномена рассогласованности уголовного закона и практики его применения приводит к обнаружению троякого значения практической пенализации.
Во-первых, практическая пенализация является наиболее гибким инструментом уголовной политики, позволяющим осуществлять и корректировать карательную практику по определенным категориям преступлений в зависимости от изменений социальной действительности, динамики преступности, оперативной обстановки и других причин.
Во-вторых, фактическая наказуемость — это индикатор обоснованности и целесообразности придания преступлению определенного вида и размера наказания. Если усилению наказания в законе соответствует снижение наказания на практике, то это уже можно рассматривать как сигнал законодателю об «излишествах» пенализации.
В-третьих, практическая пенализация — один из самых мощных рычагов воздействия на общественное правосознание, поскольку реально население ощущает пенализацию по тем конкретным приговорам, которые выносятся судами по конкретным уголовным делам. Об интенсивности пенализации судят, как правило, не по санкциям статей уголовного закона, а по тем реальным срокам наказания, которые получают конкретные преступники за совершенные ими преступления.
Депенализация есть неприменение наказания за совершение уже криминализованных деяний, а также установление в законе и применение на практике различных видов освобождения от уголовной ответственности или наказания. Тем самым депенализация существенно отличается от декриминализации.
Депенализация, если прибегнуть к традиционной терминологии, есть не что иное, как освобождение от уголовной ответственности и (или) от наказания. Видами депенализации являются:
В правоприменительной практике перечисленные виды депенализации занимают все более заметное место, решают важные уголовно-политические задачи, демонстрируя гуманизм российского государства в конструировании системы мер исправления преступников без изоляции их от общества.
Криминализация и декриминализация
Эти два понятия считаются основными методами уголовно-правовой политики. Рассмотрим их определения:
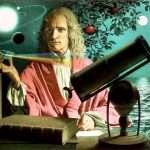
Особенности криминализации
Криминализация будет происходить вместе с появлением общественной опасности какого-либо деяния. Если же такая опасность отсутствует, то, соответственно, происходит декриминализация.
Надо отметить, что критерии общественной опасности изменяются вместе с течением времени, уровнем развития человечества. Государство должно исходить из собственных интересов, а также интересов граждан и массы юридических лиц, чьи права оно призвано защищать, выявляя эту общественную опасность. И уже следствием такого всецелого и глубокого анализа и будет выступать криминализация/декриминализация.
Важно отметить и то, что методом криминализации выступает аналогия. Но при этом применение как уголовного закона, так и его расширенное толкование по аналогии недопустимо.
Основные принципы
Выявим теперь базовые принципы криминализации и декриминализации:
Пенализация
Перейдем теперь к понятиям и видам пенализации и депенализации. Начнем с первого термина.
Что касается вышеописанных понятий, то именно пенализация выступает количественной частью криминализации, ее мерилом и показателем.
Собственная сфера явления
Разбирая понятия депенализации и пенализации, не стоит предполагать, что последняя связана лишь с криминализацией. Она будет обладать и самостоятельной сферой.
Тут имеются в виду достаточно распространенные в реальной жизни случаи, когда законодатель подвергает изменению наказание за уже совершенное деяние, которое ранее было признано криминализированным. Это может быть как его смягчение, так и ужесточение. Но все же вернее называть подобный процесс сменой интенсивности криминализации.
Способы тут весьма различные. Это могут изменения санкций статей Особенной части уголовного права. Внесение определенных корректив в положения норм Основных томов уголовных законодательств.
В качестве примера можно привести закон РФ от 25.07.1998, по которому максимальный размер санкции ч.1 статьи 223 Уголовного кодекса был увеличен до четырех лет лишения свободы. Диспозиция же данной статьи при этом была сохранена в неизменном виде.
Троякое понимание на практике
Продолжаем тему «пенализация и депенализация в уголовном праве». Наиболее обширной сферой применения этих понятий считается именно судебная практика. Налицо здесь следующее обстоятельство: фактическая наказуемость (иными словами, пенализация на практике) порой может расходиться с законодательной пенализацией. Случаи разъяснения феномена такой существенной рассогласованности уголовного законодательства и его применения в жизни общества приводят к троякому пониманию практического рода пенализации.
И вот что здесь важно выделить:
Что такое депенализация?
Главные разновидности
В правоприменительной практике намечается тенденция: перечисленные разновидности депенализации начинают занимать все более высокое место. С их помощью решаются важные уголовно-политические задачи.
В частности, депенализация, как ничто другое, демонстрирует гуманизм российской правовой системы. Также это наглядный пример того, что социум выработал эффективные меры исправления преступников без изоляции данных лиц от общества.
Дифференциация и индивидуализация наказаний
После примеров пенализации и депенализации обратимся еще к двум важным понятиям в уголовной политике.
Но в дальнейшем распространилось иное мнение. Как объем, так и характер уголовной ответственности устанавливаются в зависимости только от объективных характеристик злодеяния. Иными словами, она должна дифференцироваться. Под влиянием социологической и антропологической школы это мнение расширилось. В довершение к объективным при установлении уголовного наказания стали учитываться и субъективные признаки. Такие, которые относятся конкретно к лицу, совершившему преступление.
Средствами дифференциации сегодня выступают отягчающие и смягчающие обстоятельства, категоризация преступлений, привилегирирующие и квалифицирующие признаки составов злодеяний и проч.
На этом закончим разбор важных понятий уголовной политики. Теперь вы знаете их характеристики, примеры, а также ключевые различия между собой.
Уголовно-правовая политика современной России: проблемы пенализации и депенализации
Коробеев Александр Иванович, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Статья посвящена современному состоянию уголовно-правовой политики России, которая, по мнению автора, характеризуется отсутствием необходимых концептуальных основ, наличием отдельных спонтанных идей и директив, которые противоречиво и непоследовательно реализуются в действительности, и, наконец, деструкцией и десистематизацией уголовного закона. В качестве предложения по кардинальному решению обозначенных проблем автор предлагает разработать и принять новую редакцию действующего УК РФ на основе глубоких теоретико-прикладных исследований, с учетом концептуальных положений российской уголовно-правовой политики и использованием компаративистских методов и системных подходов.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, уголовное наказание, пенализация, депенализация, уголовная репрессия.
Criminal policy in Russia: problems of penalisation and depenalisation
Korobeev Aleksandr I., Head of the Criminal Law and Criminology Department of the School of Law at Far Eastern Federal University, LLD, Professor, Honoured Worker of Science of the Russian Federation.
The article focuses on the current state of the criminal policy of Russia which is characterised by the absence of clearly defined and officially approved conceptual grounds. The reforms of criminal law are implemented by means of spontaneous, contradictory and inconsistent directives that come from the authorities and are poorly enforced in reality. Endless amendments and additions made by the legislator to the Criminal Code have deprived the Code of its consistency. The author proposes a radical solution to these problems. He suggests drafting and adopting of the new edition of the current Criminal Code on the basis of profound theoretical and applied research using comparative methods and taking into account the concepts of Russian criminal policy.
Key words: criminal policy, penalty, penalisation, depenalisation, criminal repression.
Современное состояние уголовно-правовой политики России характеризуется, во-первых, отсутствием четко сформулированных и принятых на соответствующем уровне концептуальных основ политики нашего государства в сфере борьбы с преступностью в целом; во-вторых, наличием отдельных идей, неких векторов в развитии стратегии и тактики борьбы с преступностью, спонтанно возникающих директив, которые исходят от властных структур и весьма противоречиво и непоследовательно реализуются в действительности; в-третьих, деструкцией и десистематизацией уголовного закона, которые стали результатом бесконечной череды изменений и дополнений, внесенных законодателем в Уголовный кодекс (УК) РФ.
См.: Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006; Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М., 2008; Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009; Современные проблемы уголовной политики: Материалы V Международной научно-практической конференции (3 октября 2014 г.) в 3 т. Краснодар, 2014; Лунеев В.В. Истоки и пороки российского уголовного законодательства. М., 2014.
Между тем тенденции российской преступности настолько неблагоприятны, что многие отечественные криминологи вполне резонно утверждают: преступность создает угрозу национальной безопасности России, а сама Россия постепенно превращается в криминальное государство. На этом фоне особое значение приобретают разработка и реализация именно концептуальных основ политики государства в сфере борьбы с преступностью.
Но пока таких концептуальных основ в виде нормативного акта нет. Зато есть масса политико-правовых, нормативных и правоприменительных проблем, которые привели к современному кризису уголовно-правовой политики России. Вот как классифицируют эти проблемы отечественные правоведы:
Вместе с тем нельзя не отметить, что в уголовной политике современной России в рамках общей тенденции к ее гуманизации (при всей ее противоречивости и волатильности) прослеживается постепенный переход от сугубо карательных к реабилитационным и реституционным началам. Однако данный процесс, во-первых, далеко не всеми воспринимается как безусловно позитивный, а во-вторых, развивается в настоящее время отнюдь не однолинейно.
С тем чтобы убедиться, что это действительно так, проанализируем пенализационные и депенализационные процессы, благодаря которым репрессия должна постоянно приводиться в соответствие с реалиями социальной действительности, адекватно отражать в себе характер и степень общественной опасности совершаемых преступлений.
Шестаков Д.А. Российская уголовно-правовая политика под углом зрения исторической тенденции к смягчению репрессии // Правоведение. 1998. N 4. С. 158.
Вместе с тем необходимо учитывать, что акты депенализации, хотя и меньшие по количеству, затрагивают тем не менее обширную сферу уголовно-правовых отношений, а потому объем уголовной репрессии в результате введения в закон и широкого применения на практике таких институтов, как условное осуждение, условно-досрочное освобождение, отсрочка исполнения приговора, иные виды освобождения от уголовной ответственности и (или) от наказания, заметно сокращается.
С особой наглядностью сказанное можно проиллюстрировать на примере Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», существенно расширившего сферу действия институтов и норм, направленных на дифференциацию уголовной ответственности, наказания и освобождения от них.
Имеются в виду Федеральные законы от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.02.2012 N 14-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ, от 28.07.2012 N 141-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 150-ФЗ, от 23.07.2013 N 218-ФЗ, от 21.10.2013 N 270-ФЗ, от 05.05.2014 N 91-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ, от 31.12.2014 N 529-ФЗ.
В сфере пенализации и депенализации перечисленные Законы содержат следующие новации:
Можно констатировать, что в момент принятия УК РФ 1996 г. лестница включенных в него уголовных наказаний представляла достаточно стройную систему. Однако в процессе эволюции уголовного законодательства, который носил во многом импульсивный, спонтанный, хаотичный характер, систему залихорадило, она разбалансировалась, образно говоря, «лестница зашаталась, ступени стерлись».
В результате практика для применения выбрала из системы только три-четыре вида наказаний, забраковав все остальные. В связи с этим в теории уголовного и уголовно-исполнительного права к наиболее значимым недостаткам действующей системы уголовных наказаний причисляют следующие:
Итак, своеобразная особенность нынешнего этапа развития российской уголовно-правовой политики состоит в том, что смягчение уголовной репрессии, ограничение уголовно-правового воздействия происходят в большей степени за счет установления в законе и широкого применения на практике различных оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания и в меньшей степени за счет декриминализации общественно опасных деяний.
Объясняется это тем, что объем реально применяемой уголовной репрессии может быть сокращен и без резкой ломки сложившейся системы Особенной части действующего уголовного законодательства. Результат в этом случае достигается путем расширения законодателем возможностей для отказа от применения мер уголовно-правового характера или даже от привлечения к уголовной ответственности за фактически совершенные лицами (при определенных обстоятельствах) преступления. Изучение изменений современного законодательства приводит к выводу, что депенализация выбрана главным направлением уголовно-правовой политики.
Не менее сложная ситуация наблюдается и в правоприменении. Так, проблемы в сфере практической пенализации нередко возникают из-за рассогласованности позиций законодателя и правоприменителя по тому или иному уголовно-правовому вопросу.
В качестве примера приведем проблему соотношения множественности преступлений и их учтенной совокупности.
В ч. 1 ст. 17 УК РФ установлено правило: совокупность исключается, когда «совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание». Некоторые статьи Особенной части УК РФ в числе необходимых признаков упоминают самостоятельные уголовно-правовые составы. Чтобы не вызывать споров относительно квалификации такого рода преступлений со сложным составом (учтенной законом совокупностью преступлений), законодатель ясно обозначил то, что норма о совокупности преступлений на такие случаи не распространяется. Руководствуясь буквальным толкованием ст. 17 УК РФ, следует предположить, что содержащаяся в ней оговорка, исключающая совокупность преступлений, охватывает следующие ситуации: а) совершение преступления в отношении двух или более лиц (п. «б» ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 121, п. «ж» ч. 2 ст. 126, п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ и др.); б) совершение преступления, сопряженного с другим преступлением, в случаях когда это обстоятельство играет роль квалифицирующего признака в норме Особенной части УК (п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ); в) совершение преступления, повлекшего наступление последствий, причинение которых образует состав самостоятельного преступления, но в данном составе выполняет функцию квалифицирующего признака (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. 3 ст. 281 УК РФ). В указанных ситуациях имеет место «учтенная законодателем совокупность преступлений», т.е. составное преступление, которое должно квалифицироваться по одной статье УК.
Данное правило носит императивный характер. Теоретическим обоснованием этого императива служат следующие соображения. Если сам законодатель включил в качестве квалифицирующего признака в норму Особенной части УК РФ дополнительно еще один состав преступления (который по общему правилу является самостоятельным), предусмотрев за эту комбинацию двух преступлений гораздо более жесткую санкцию, чем в норме об ответственности за основной состав, то он (законодатель) тем самым уже учел повышенную общественную опасность и такого деяния, и такого деятеля. Нормотворец путем создания комбинированной нормы послал правоприменителю недвусмысленный сигнал, что квалифицировать данные преступления необходимо только по той статье, которая предусматривает их учтенную совокупность.
Подход законодателя к конструированию подобных новелл в нормах Особенной части УК и формулированию в нормах Общей части (ст. 17) императивного постулата квалифицировать анализируемые преступления только по той статье, которая уже предусматривает их учтенную совокупность, вполне объясним и с точки зрения формальной логики, и с позиций здравого смысла.
Так обстоят дела с интерпретацией положений о сочетании понятий «множественность преступлений» и «учтенная совокупность преступлений». Однако этот тезис не снимает проблем, которые возникают в связи с квалификацией таких преступлений в судебной практике.
Проанализируем сказанное на примере квалифицированных убийств (как самых тяжких посягательств на личность), сопряженных с другими преступлениями.
Казалось бы, ответ на эти вопросы в свете вышеизложенного нами очевиден. Однако Верховный Суд РФ в нескольких своих постановлениях по разным категориям уголовных дел занял отнюдь не однозначную позицию.
И в самом деле, ведь п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ в той части, где речь идет об убийстве, сопряженном с разбоем (а равно с бандитизмом, вымогательством, изнасилованием, насильственными действиями сексуального характера, похищением человека), представляют собой ту самую учтенную совокупность соответствующих преступлений, о которой говорилось выше. Поэтому в соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ, к примеру, разбой, сопряженный с убийством, не может рассматриваться как самостоятельное преступление, требующее квалификации его по совокупности с убийством. Все содеянное полностью охватывается п. «з» ч. 2 ст. 105 УК и никакой дополнительной квалификации не требует. Более того, такая квалификация нарушает еще и принцип справедливости, согласно которому «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление» (ч. 2 ст. 6 УК РФ).
Спрашивается: неужели при такой облагороженной квалификации принцип справедливости ни на йоту не будет поколеблен? Конечно, нет. Ведь очевидно, что, конструируя п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ как учтенную совокупность убийства, бандитизма, разбоя и вымогательства, законодатель отразил в санкции данной статьи повышенную общественную опасность этих сложносоставных преступлений. И если при таких обстоятельствах считать несправедливым дополнительное присоединение к квалифицированному убийству особо квалифицированных видов разбоя и вымогательства, то дополнительное вменение простых их видов придется признать уже верхом несправедливости.
См.: Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. С. 307.
Небезупречна данная рекомендация и по существу. Во-первых, очевидно, что само по себе квалифицированное убийство является более тяжким преступлением, чем террористический акт. Во-вторых, если сравнить санкции ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 205 УК РФ, то окажется, что первая из них содержит более жесткое наказание (в ней, помимо прочего, до сих пор значится смертная казнь). В таких случаях с точки зрения теории квалификации оценивать все деяние в целом необходимо по совокупности преступлений. И если это так, то остается неясным сам смысл внесенных в ст. 205 УК РФ изменений. Гораздо логичнее было бы поступить прямо противоположным образом: включить террористический акт в п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ как сопряженное с убийством преступление. Но это уже упрек законодателю.
Таким образом, мы убедились, что законодатель внесенными им изменениями в институт множественности и сконструированной им же учтенной совокупностью преступлений загнал правоприменителя в порочный круг.
По одной категории дел (речь идет о квалифицированных убийствах) Верховный Суд РФ вопреки императивным указаниям закона стоически обороняется, настоятельно рекомендуя судам квалифицировать убийства, сопряженные с другими преступлениями, исключительно по совокупности. По другой же категории дел, где речь идет о террористических актах, сопряженных с убийством, Верховный Суд РФ разделяет позицию законодателя и не велит судам квалифицировать эти деяния по совокупности.
Как разомкнуть этот круг?
Преодолеть сложившееся положение можно несколькими путями.
Во-первых, в качестве промежуточного, но безотлагательного шага необходимо привести судебную практику в строгое соответствие с требованиями положений ст. 17 УК РФ в той ее части, где речь идет об учтенной совокупности преступлений. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в постановления Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся правил квалификации таких преступлений, с тем чтобы обеспечить единообразное толкование уголовного закона и его применение на практике.
Но мы уже показали ранее, что подобная квалификация не будет отражать в полном объеме повышенную общественную опасность личности преступника, не только причиняющего вред отношениям в сфере общественной безопасности и т.д., но и умышленно лишающего при этом жизни потерпевшего. Признать такую квалификацию оптимальной не представляется возможным.
Волженкин Б.В. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений по УК РФ // Законность. 1998. N 12.
Что же касается дальнейшего развития системы уголовных наказаний в России, то к настоящему моменту, как нам представляется, эволюционный путь ее совершенствования себя уже исчерпал, а для глобального реформирования Уголовного кодекса еще не созрели все необходимые социально-экономические, политические, идеологические и прочие предпосылки.
Однако выход все-таки есть. Он состоит в том, чтобы на основе глубоких теоретико-прикладных исследований, с учетом концептуальных положений российской уголовно-правовой политики, с использованием компаративистских методов и системных подходов разработать и принять новую редакцию пока еще действующего УК РФ (как это сделали, например, китайские законодатели со своим УК в 1997 г.).
См.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики. М., 2014.
References
Alekseev A.I., Ovchinskiy V.S. and Pobegaylo E.F. Russian Criminal Policy: Surviving the Crisis [Rossiyskaya ugolovnaya politika: preodolenie krizisa] (in Russian). Moscow, 2006. 144 p.
Babaev M.M. and Pudovochkin Yu.E. Issues of Russian Criminal Policy [Problemy rossiyskoy ugolovnoy politiki] (in Russian). Moscow, 2014. 292 p.
Volzhenkin B.V. The Principle of Equity and Issues of Cumulation of Crimes according to the Criminal Code of the Russian Federation [Printsip spravedlivosti i problemy mnozhestvennosti prestupleniy po UK RF] (in Russian). Legality [Zakonnost’]. 1998. No. 12, available at «ConsultantPlus» Legal Reference System.
Gavrilov B.Ya. Russian Criminal Policy of Today: Numbers and Facts [Sovremennaya ugolovnaya politika Rossii: tsifry i fakty] (in Russian). Moscow, 2008. 208 p.
Korobeev A.I. Infrigement of the Life and Health of a Human [Prestupnye posyagatel’stva na zhizn’ i zdorov’e cheloveka] (in Russian). Moscow, 2012. 320 p.
Korobeev A.I. The Scale of Penalties in Russia: Concept, Classification, Types [Lestnitsa ugolovnykh nakazaniy v Rossii: ponyatie, klassifikatsiya i vidy] (in Russian). Saarbrucken, 2014. 544 p.
Lopashenko N.A. Criminal Policy [Ugolovnaya politika] (in Russian). Moscow, 2009. 608 p.
Luneev V.V. Origins and Flaws of Russian Criminal Legislation [Istoki i poroki rossiyskogo ugolovnogo zakonodatel’stva] (in Russian). Moscow, 2014. 320 p.
Naumov A.V. Crime and Penalty in the History of Russia. Part 2 [Prestuplenie i nakazanie v istorii Rossii. Chast’ II] (in Russian). Moscow, 2014. 656 p.
Mal’ko A.V. (ed.). Legal Policy in Russia: General Theory and Particular Problems: a Course Book [Pravovaya politika Rossii (obshcheteoreticheskie i otraslevye problemy): Ucheb. posob.] (in Russian). Moscow, 2014. 453 p.
Issues of Contemporary Criminal Policy: Proceedings of the V International Theory and Practice Conference (October 3, 2013). In 3 vol. [Sovremennye problemy ugolovnoy politiki: materialy V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (3 oktyabrya 2014 g.)] (in Russian). Krasnodar, 2014.











