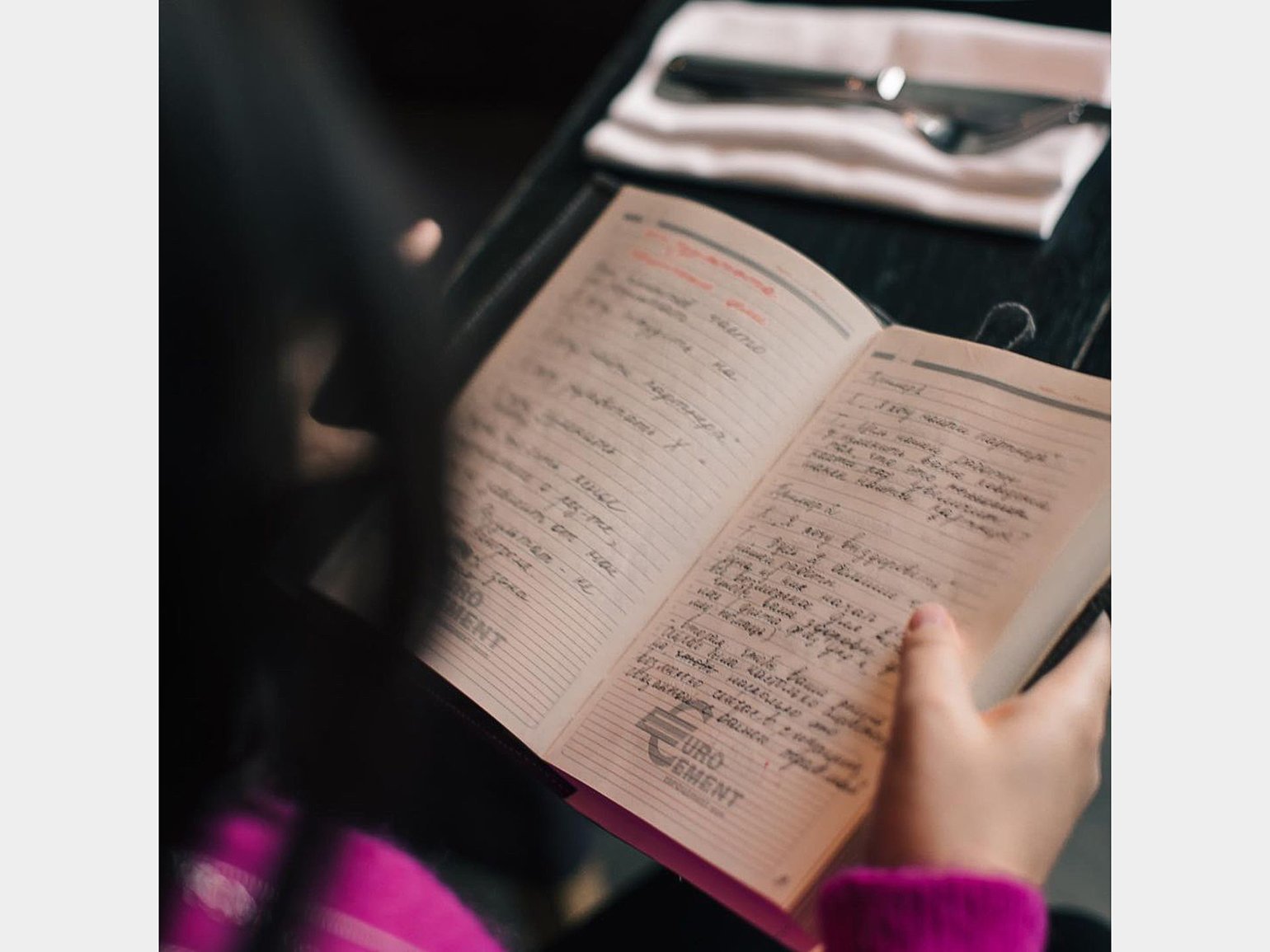Что такое социальная тревога
Социальная тревожность

Причины
Социальная тревожность заложена в человечество эволюцией, поскольку люди – социальные создания. Каждому важно ощущать себя участником группы. Поэтому следует дифференцировать обычную тревогу, порождённую, например, необходимостью проведения какой-либо публичной акции от тревожного расстройства, базисом которого является боязнь быть отвергнутым, осмеянным, непринятым.
У лиц, страдающих социофобией, страх преобладает над любыми иными эмоциями. Самое простое взаимодействие с социумом им, или вовсе не даётся, или с огромным трудом. Следствием этого становится их изолированность от общества, ограниченность профессиональной самореализации, недоступность построения взаимоотношений. Они предпочитают трудовую сферу, где взаимодействие с людьми сведено к минимуму. Все это сильно снижает качество их бытия.
Считается, что на формирование анализируемой боязни воздействуют генетические детерминанты и социальные факторы.
Исследователи генетической обусловленности социальной тревожности придерживаются воззрения, утверждающего, что вероятность формирования анализируемого расстройства у потомства возрастает приблизительно в 3 раза при его диагностировании у родителей либо ближайшей родни. Исследования близнецов продемонстрировали, что при диагностировании у одного малыша данной фобии, вероятность её выявления у второго сиблинга практически 40-50%.
Также установлена непосредственная зависимость социальной тревожности от гиперопекающей воспитательной модели: родители, неустанно следящие за любым шагом чада, увеличивают риск формирования описываемого расстройства.
Ниже приведены личностные черты и социальные факторы, способствующие формированию социофобии:
– коммуникативные проблемы во взаимодействии с противоположным гендером;
– врождённая гиперчувствительность к критике;
– травля детей в дошкольных заведениях либо в школах;
– неудачный пережитый опыт взаимодействия с окружением.
– дефицит ранней привязанности – младенец недополучил необходимое количество заботы, ласки, внимания;
– недоношенность (вследствие недоразвития отдельных мозговых зон).
Социальная тревожность в детском периоде бывает спровоцирована:
– издёвками со стороны взрослого окружения;
– поддразниваниями либо измывательствами среди сверстников;
– жёсткими запретами без учета желаний детей.
Важным триггером социальной тревожности считается родительское поведение. Когда малыши видят родителей, испытывающих тревогу, они словно «впитывают» это и фиксируют.
Симптомы
Индивиды, страдающие анализируемой фобией, склонны считать, что иные личности более коммуникативные, свободно ощущают себя в незнакомом коллективе, успешнее в публичных акциях. Социофобам присуще зацикливание на мельчайшем промахе, совершаемом им при социальных контактах.
Некоторые люди испытывают специфические страхи, например, панику может порождать необходимость произнесения публичных речей либо разговора с начальством. Другие – страшатся всяких ситуаций, обусловленных взаимодействием с незнакомыми личностями, например, попросить в транспорте, остановить на нужной остановке. Иногда социальная тревожность может охватывать боязнь посещения общественных уборных, ужина вне дома, телефонной беседы в присутствии посторонних лиц.
Данную вариацию фобии нельзя рассматривать в качестве обычной застенчивости. Застенчивые индивиды могут испытывать лёгкое беспокойство, связанное с социальным контактированием, но уровень социальной тревожности у социофобов значительно выше и тяжело поддаётся устранению. Помимо того застенчивые личности не стремятся полностью избежать социального взаимодействия в отличие от истинных социофобов.
Таким образом, описываемая боязнь являет собой сильнейшую боязнь и повышенную тревогу, обусловленную возможностью подвергнуться унижению в разнообразных социальных ситуациях, в частности перед незнакомыми лицами.
Социофобы могут ощущать спокойствие при контактировании со знакомыми индивидами, но отдельные условия, например необходимость движения мимо собрания людей по коридору вызывает беспокойство.
Большинство лиц, страдающих рассматриваемым вариантом фобии, хорошо осведомлены по поводу иррациональности их опасений. Однако вновь и вновь продолжают ощущать панический страх в условиях, которые именно для них являются пугающими.
Можно выделить такие симптомы социальной тревожности:
– интенсивная и устойчивая боязнь определённых социальных или служебных ситуаций, когда индивид подвергается влиянию неизвестных лиц или возможному контролю со стороны окружения (человека страшит, что его действия или выражение тревоги будет унизительным);
– панические атаки при нахождении в «опасных» социальных обстоятельствах;
– понимание иррациональности, преувеличенности, неразумности страха;
– избегание социальных коммуникаций, гиперболизированная тревожность при необходимости социального взаимодействия, ухудшение качества бытия, препятствия в профессиональном самосовершенствовании и росте;
– опасение ситуаций, связанных с возможным осуждением (например, когда индивиду приходится отчитываться за собственные достижения или действия);
– беспокойство, мешающее повседневной жизнедеятельности, школьному или рабочему процессу (люди опасаются позвонить, вызвать электрика).
Также данной вариации тревожного расстройства присущи и вегетативные нарушения: одышка, гиперпотливость, дрожание конечностей, тахикардия, скачки давления, заминки речи, тошнота, непроизвольное мочеиспускание.
Социальная тревожность у детей выражается, либо устойчивым страхом, либо избеганием неизвестных ситуаций и посторонних лиц. Страх, как правило, обнаруживается при взаимодействии с ровесниками или взрослыми людьми. Ребёнок ощущает дистресс в ситуациях, в которых ему приходится участвовать поневоле или в новых условиях. Проявляется дистресс аутизацией, отсутствием самопроизвольной речи, плачем. Ребёнок выражает напряжённость при посторонних, стремится увильнуть от контактов, уклоняется от ответов. От истинных аутистических отклонений описываемое поведение отличается нормальным коммуникативным взаимодействием с близкими или хорошо знакомыми лицами.
При лёгких случаях анализируемое отклонение может обнаруживаться в повышенной робости, стеснительности, заторможенности, обидчивости, неумении отстоять себя.
Пубертатный период знаменуется более заметными трансформациями характера. Большую явность приобретают застенчивость, стеснительность и неспособность себя отстоять. Обнаруживается неуверенность, склонность быть незаметным при посторонних, повышенная чувствительность, излишняя впечатлительность. Наиболее сложно подросткам даются публичные выступления, страх которых сохраняется и во взрослом возрасте.
Обычно тревожность, зарождающаяся непосредственно до выступления, провоцирует эмоциональную дезорганизацию интеллектуальной деятельности. Подростки, отлично владеющие предметом, путаются при ответах, становятся непоследовательными и производят впечатление неготовых, что приумножает ощущение неполноценности и чувство недовольства собой. Яркость приведённых специфик эмоционального реагирования зачастую бывает довольно значительной, что препятствует социализации тинэйджера.
Лечение
Любой человек способен научиться преодолевать повседневное беспокойство самостоятельно, но повышенная социальная тревожность должна искореняться при помощи профессиональных психотерапевтических мероприятий, из которых наиболее результативными считаются когнитивно-поведенческие техники.
Коррекционные методы подбираются индивидуально, терапевт основывается на потребностях клиента. При этом за основу берутся такие факторы, как уровень тяжести социальной тревожности, степень сторонящегося поведения, анамнез, наличие предшествующего лечения, расположенность клиента содействовать терапевтическому процессу, сопутствующие недуги.
Основная цель коррекционной стратегии заключается в минимизации волнения при прохождении социальных ситуаций, дабы расстройство не ограничивало социальную жизнедеятельность пациента.
Традиционная терапия направлена на столкновение клиента с социальным взаимодействием и повышение удовлетворения, чувства успешности при решении описываемых проблем. Как правило, терапевтический процесс совершается в группе, поскольку это способствует возможности получения первичного опыта отдельными членами, а также практике базисных социальных навыков, отрабатывающихся после сеансов самостоятельно в естественной среде.
Терапия социофобии предполагает применение нижеследующих методик: психообразования (информирование и поддержка для лучшего понимания недуга и эффективного его преодоления) о социофобии и коррекционных методах, тренировку социальных умений, когнитивной работы с беспокойными думами, воздействие пугающих ситуаций в представлении пациента и в натуральных условиях.
Также стратегия терапии нередко дополняется обучением аутогенной тренировки либо мышечной релаксации.
Помимо приведённого подхода эффективными считаются гешталь-терапия, основанная на постановке клиентами экспериментов и наблюдении за выявляемыми феноменами, методика десенсибилизации (систематическое поэтапное снижение чувствительности пациентов к ситуациям, порождающим тревожность), рациональная психотерапия (рассматриваются алогичные установки), ролевые игры.
Приведённые методики способствуют устранению негативных мыслей, психологического дискомфорта, неприятных ощущений, дабы в дальнейшем клиент имел возможность полностью преодолеть социальную боязнь.
Также неплохие результаты в ликвидации данной вариации фобии показали гипнотехники, позволяющие оказывать непосредственное воздействие на психические процессы, сознание. Здесь происходит внушение клиентам абсолютно свежих взглядов и установок. Пациент начинает рассматривать собственную личность иначе, что существенно позволяет трансформировать отношение к социальному взаимодействию и окружению.
Лечение социальной тревожности может основываться и на медикаментозном воздействии. Фармакопейная терапевтическая стратегия бывает краткосрочной и продолжительной, что обусловлено выбором лекарственного препарата.
Медикаментозная программа терапии расстройства социальной тревожности, как правило, включает назначение: антиконвульсантов, психотропов, успокоительных препаратов, анксиолитиков, снотворных веществ.
Не следует относиться к наличию описываемого варианта фобии, как к окончательному вердикту, отменяющему полноценное гармоничное бытие. В борьбе с данным расстройством главное не страшиться обратиться за специализированной помощью. Ведь людей, страдающих данной вариацией фобии, достаточно много.
Автор: Психоневролог Гартман Н.Н.
Врач Медико-психологического центра «ПсихоМед»
«Социальная тревога не всегда проблема»: как принять тревогу и справиться с ней
Психолог Екатерина Онокой рассказала, как работает тревога, когда нужно столкнуться со своими страхами и почему так важно хвалить себя.
Екатерина Онокой
Клинический психолог, основатель проекта «Когнитивная академия». Адепт доказательных подходов в психотерапии: КПТ, ACT и схемной терапии.
Журналист по образованию и по складу ума. Берёт интервью для Skillbox и изучает сторителлинг. Занимается текстами с 2016 года.
Социальная тревога: что это и как она себя проявляет
— Что психология понимает под термином «социальная тревога»?
— Социальная тревога — это выраженное беспокойство о мнении других людей, такой постоянный страх публичного позора и провала. Человеку настолько трудно и тревожно проявлять себя в социуме, что со временем он выбирает разные стратегии, чтобы и вовсе не встречаться с источником беспокойства.
— Застенчивость и социальная тревожность — это братья-близнецы?
— Застенчивость — это дискомфорт и неловкость, которые человек испытывает при общении с новыми людьми. При этом застенчивость может не влиять серьёзно на жизнь человека. Социальная тревожность же приводит к выраженному избеганию и социальной изоляции: дискомфорт настолько сильный, что человек избегает контактов и любых социальных ситуаций.
— А как не перепутать интроверта с человеком с социальной тревогой?
— Эти понятия никак не соотносятся друг с другом. Интроверт — это человек, который чаще других нуждается в уединении — в нём он подпитывает свои силы. Общение забирает у интроверта много внутренних ресурсов, и наедине с собой он их восстанавливает. При этом он может обладать отличными социальными навыками и не испытывать социальной тревоги вовсе.
И наоборот: есть вероятность, что вы встретите экстраверта, стремящегося к общению через свой страх. Так что не стоит связывать социальную тревогу с другими психологическими критериями и категориями. Она может возникнуть у кого угодно.
— Повлияла ли пандемия на разрастание социальной тревоги?
— Конечно, подобные внешние факторы сильно сказываются на самоощущении человека. Чем дольше мы не взаимодействуем вживую с другими людьми, тем больше может усилиться тревога.
Приведу пример. Мамы, долгое время просидевшие в декрете, часто жалуются: «Я как будто из берлоги вылезла — совсем разучилась общаться». То есть раньше у неё этот навык был, но длительный период изоляции привёл к тому, что долгое время он не использовался.
Норма или проблема: когда социальная тревога становится опасной
— Может ли тревога быть нормой жизни?
— Да. Мы все периодически тревожимся и испытываем неловкость в публичном пространстве: переживаем, что о нас подумают люди и боимся опозориться — это совершенно нормально.
— Что же делает тревогу проблемой?
— Наши ошибки мышления, укрепляющие её, а также поведенческие стратегии. Например, при социальной тревоге ключевой становится стратегия избегания: мы обходим источник тревоги стороной и делаем всё возможное, чтобы не встретиться с ним вновь.
— По сути, эта стратегия ведёт к полной изоляции. Чем больше человек избегает, тем сильнее сужается его мир. Это очень подпитывает Я-концепцию : мне трудно с людьми, я тревожусь при общении, поэтому спрячусь в свою норку и изолируюсь. Загвоздка в том, что базовые потребности — в привязанности, принадлежности к группе, поддержке — невозможно удовлетворить, находясь в изоляции. Без них жизнь покажется неполноценной.
Когда мы избегаем общества, мы не тренируем социальные навыки. И когда нам всё-таки придётся вступить в коммуникацию с другим человеком, у нас не хватит на это способностей. Круг замкнётся, а социальная тревога лишь усилится.
— Как понять, адекватна ли тревога или уже выходит за рамки?
— Тревожные мысли не должны сильно влиять на вашу жизнь и снижать её качество. Если вы мечтаете обрести новых друзей или расширить свои контакты, но при этом страх перед действием вас парализует — это признак того, что с тревогой нужно работать.
Объясню на примере, чем отличается динамика нормальной и социальной тревоги. Представьте, что вы пришли в новый коллектив. Нормально ли тревожиться в такой ситуации? Конечно. Вы не знаете, как вас примут, с кем общаться, какая культура внутри компании — новизна почти всегда вызывает тревогу.
Тревога постепенно угаснет, когда обстановка станет привычной. Если через неделю вы уже зовёте коллег на обед, пьёте вместе чай и узнаёте всех поближе — значит, вы справились и накопили опыт совладания. Но если вы сразу закроетесь от коллектива и посчитаете себя белой вороной, ваше мышление и поведенческие стратегии, наоборот, сделают всё, чтобы тревога не утихла через две-три недели, а только умножилась. Скорее всего, вы даже соврёте, что заболели, чтобы не идти на корпоратив.
— Как поймать момент, когда тревога только зарождается? Всё-таки не хочется доводить себя до ситуации, что вы описываете…
— У каждого человека разные триггеры, и нет ничего лучше наблюдения за ними. Проанализируйте: какие ситуации порождают у вас тревогу? Что её вызывает? Важно понять, в чём именно состоит ваш базовый страх. Возможно, он не про социальную тревогу вовсе.
Пример. Некоторым невыносимо в общественном транспорте из-за большого количества людей: «Столько народа. А вдруг я вспотею и все это увидят? Что они подумают обо мне?» А кто-то в этом же общественном транспорте боится за своё здоровье: «Вдруг со мной что-то случится, а там такая суета и никто мне не поможет». Вроде ситуация одна, а базовые страхи — разные.
«Нужно хвалить себя и не думать об упущенных возможностях»
— Когда к вам приходит клиент с социальной тревогой, с чего вы обычно начинаете работу?
— В индивидуальном формате мы сначала формулируем цели терапии и определяем, как сильно тревога влияет на жизнь человека. Мне нравится вопрос: «Что бы вы делали иначе, если бы тревога больше не управляла вашей жизнью?» Люди чаще всего отвечают: «О, я бы тогда чаще общался с коллегами, встретился с бывшими одноклассниками, пригласил девушку на свидание».
И тогда мы возвращаемся к важной мысли, которая должна нормализовать тревогу: мы можем бояться, но действовать. Ведь правда можно волноваться и тревожиться из-за отказа, но всё равно пригласить девушку на свидание? Пускай человек не думает: «Пока я боюсь — я не могу этого делать».
Спецпроект Skillbox Media:
— Как подтолкнуть себя к этому действию?
— Взгляните на тревогу сейчас и в перспективе. Представим, что вы не пошли на встречу одноклассников. Сегодня вы и вправду выдохнули: не придётся рассказывать о себе и своей жизни. А в долгосрочной перспективе: помогло ли это укрепить связи с другими людьми? Стало ли после этого легче заводить новые знакомства и поддерживать старые контакты?
— Можно ли в таком контексте говорить о высокой цене, которую человек платит за свою тревогу? Об упущенных возможностях?
— Мы рассматриваем только перспективу, а вот упоминание об упущенных возможностях — совсем не поддержка. Человеку с тревогой и так тяжело, а такими разговорами мы только сыпем ему соль на рану: «Знаешь, дружочек, где бы ты был, если бы так сильно не тревожился. » Да он и сам всё понимает, если пришёл к психологу, записался на курс или купил книгу.
Я знаю, что некоторые используют такие провокации, но я не верю в их пользу и так не делаю. И не советую вам самим вести подобный внутренний диалог. Всегда эффективнее идти от надежды, от того, с чем мы уже справились, что смогли. Силы возникают, когда мы видим, что от наших усилий что-то зависит.
При работе с социальной тревогой очень важно не обесценивать свои маленькие шаги на пути к цели, отслеживать прогресс и хвалить себя. Говорите себе: «Мне было трудно, но я это сделал. И сделаю ещё раз, потому что это важно для меня сейчас и меня в будущем».
— А как научиться хвалить себя и искренне верить в это?
— Я часто прошу клиентов, обесценивающих свои усилия, составлять «список гордости» и выписывать в него все свои достижения. В контакте с психологом (или другим человеком) получается легче: я подсказываю клиенту реальные факты, которые он сам не замечал. Перечитывая список гордости, человек понимает — он и правда всё это сделал! Ему было страшно, сложно, тревожно, но он смог. Постепенно достижения накапливаются и человек перестраивает свою внутреннюю «оптику» — учится замечать свои усилия, ценить их.
«Со страхом нужно встречаться»
— Вы сказали, что у всех людей индивидуальные триггеры и проявления тревоги. Но есть ли что-то, что поможет большинству?
— Конечно, есть. Подходы, которые работают для большого количества людей, — это и есть та самая доказательная психология. Когда психолог не просто предлагает индивидуальное и нераспространённое решение, а, наоборот, использует наработки, эффективность которых доказала статистика.
Людям с социальной и другой тревогой я предлагаю составить «лесенку страха»: выстроить по иерархии (от 0 до 10) ситуации, которые его тревожат и которых он избегает. Например: спросить дорогу у незнакомого человека — это дискомфортно, но терпимо, 4/10, а вот выступить на конференции — очень страшно, ставим 10/10.
— И как дальше работать с этой «лесенкой страха»?
— А дальше мы должны медленно, по ступенькам подниматься по этой лестнице и сталкиваться с тем, чего боимся (в терапии это называется экспозицией). Раз за разом преодолевая свою тревогу, мы накапливаем опыт совладания: «Да, мне было страшно и неприятно, но я справился и это меня никак не разрушило. А значит, смогу сделать то же самое и в следующий раз».
Это очень важная идея — нам надо действовать и встречаться со страхом, а не просто «переставать бояться».
— Можно ли перепрыгнуть через все ступени и сразу же броситься на свой главный страх?
— На этот счёт много споров. Есть психологи, которые и правда начинают с интенсивной экспозиции: кидают человека с мостика и смотрят, как он выплывет. Но я за более мягкий подход. Если учиться в вольере с крокодилами, то уровень дискомфорта будет слишком высоким. Мысли человека будут только о выживании, а нам нужно, чтобы он укреплял веру в свои силы.
— То есть без подготовки в вольере совсем не выжить?
— Вероятнее всего, страх только подтолкнёт вас избегать проблему и дальше. Ведь с какими мыслями останется человек после интенсивной экспозиции? «В реальности это оказалось даже страшнее, чем я себе представлял, ну на фиг! Мне было так дискомфортно, что лучше я снова буду обходить подобные ситуации стороной».
— А любой ли свой страх в принципе нужно преодолевать?
— Это вопрос ценностей. В ситуациях, что мы обсуждали, человек шёл в дискомфорт, чтобы вырасти: например, ему был необходим навык публичных выступлений для работы. Но в остальном: зачем прыгать с парашютом, плавать с акулами и трогать змей, если эти страхи никак не влияют на качество вашей жизни?
Встречаться со страхами полезно, только если они делают вашу жизнь неполноценной.
— Но когда мы сталкиваемся со страхом в повседневной жизни и даже преодолеваем его, мы не всегда чувствуем, что выросли…
— Да, зачастую мы двигаемся маленькими шагами и прогресс нарастает медленнее, чем нам хотелось бы. Это нормально. Для меня, например, большая мука — видеосъёмки. Ощущение после них — будто я вагоны разгружала. Но каждый раз становится чу-у-уточку легче. Хотела бы я записывать всё идеально с первого дубля, чувствовать себя свободно в процессе? Конечно. Но, к сожалению, это так не работает.
При этом я принимаю свой дискомфорт и иду в него, ведь именно благодаря действию у меня появляется возможность участвовать в интересных проектах, реализовываться, делиться идеями. И вот опять мы возвращаемся к вопросу ценностей 🙂
— Принимать свою тревогу — значит осознанно идти к её источнику?
— Идти с пониманием цели. В терапии принятия и ответственности я люблю объяснять это на простой метафоре: представьте, что вам надо попасть из точки А в точку Б. Идёт дождь. Вы пойдёте под дождь не потому, что хотите намокнуть, а потому, что вам нужно оказаться в точке Б. Так же и в жизни: мы идём в дискомфорт не потому, что хотим столкнуться с тревогой, а потому, что она загораживает нам путь к важным целям.
Можете ли вы взять и выключить свою тревогу? Нет. Но вы в силах сделать всё, чтобы она стала сносной и не мешала вам в реализации задуманного.
Тревога бывает разной: узнать и побороть
— Вы автор и спикер курса «Справляемся с тревогой и беспокойством». В чём ценность этой программы?
— Курс поможет узнать природу тревоги и разобраться в ней. Мы выстроили программу в форме буквы U. Спускаясь по дуге, мы наблюдаем за своей тревогой и выявляем её индивидуальные особенности: как она устроена, как проявляется на уровне мышления и поведения, эмоций и тела. Оказавшись на дне, проводим ревизию: какие стратегии мы используем, пытаясь побороть тревогу, почему большинство из них не работает.
А дальше снова поднимаемся на верх этой буквы U и изучаем инструменты самопомощи: ту самую экспозицию, телесные техники, практики осознанности, техники работы с убеждениями. Бо́льшая часть курса как раз посвящена паковке универсального «противотревожного чемодана», который вы сможете взять с собой куда угодно.
— Вы упомянули практики осознанности. Как они помогают при тревоге?
— Они возвращают человека в момент, в настоящее. Ведь что такое тревога для нашего разума? Это машина времени. Разум генерирует десятки негативных исходов, которые пока не произошли: «Я сейчас скажу глупость и опозорюсь, буду выглядеть глупо и смешно». Если мы сконцентрируемся на своём теле и дыхании, которые функционируют только здесь и сейчас, мы вернёмся в реальное время и снизим тревогу.
— Вы могли бы привести пример: как правильно дышать, чтобы успокоиться при нарастающей тревоге?
— Подобных техник очень много, лучше подбирать индивидуально. Из суперпростых и распространённых — короткий вдох и длинный выдох. Хороший способ саморегуляции.
— Поможет ли курс с другими видами тревоги, кроме социальной?
— Конечно! Мы разбираем тревогу в принципе, а не только при взаимодействии с другими людьми: тревогу о настоящем и будущем, тревогу о здоровье, тревогу по рабочим вопросам или семейным.
Кстати, тревога, связанная с телесными ощущениями, очень распространена: у многих людей хоть раз в жизни случалась паническая атака. В этот момент человека пугает реакция его же тела: дыхание и сердцебиение учащаются и кажется, что ты вот-вот потеряешь сознание или даже умрёшь. Это феномен мы также рассматриваем на курсе и разбираемся, как с ним быть.
Система устойчивых представлений индивида о самом себе.